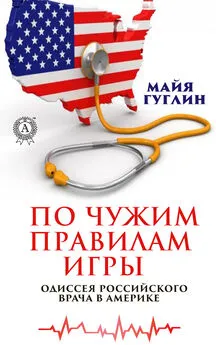Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]
- Название:«Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Побережье, New England Publishing Co.
- Год:2000
- Город:Philadelphia
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке] краткое содержание
«Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Р.S. (Пост Скриптум):
Я пересказал далеко не всё из того, что слышал от своих знакомых ньюйоркских врачей. Возможно, некоторые высказывания медиков о своих коллегах и пациентах покажутся нашим читателям излишне резкими. А может быть, и наоборот, откровенные высказывания людей в белых халатах заставят нас по-новому взглянуть на самого себя, пребывающего в роли пациента. Ведь каждому из нас рано или поздно суждено оказаться под острым взглядом врача. Всегда ли мы выглядим при этом достаточно достойно?
3. Ради детей!…
За последние месяцы мне несколько раз довелось столкнуться с вечной человеческой проблемой "Отцы и дети". Вопрос о конфликте между поколениями, разное видение мира у юных и зрелых поднимался в русской литературе неоднократно, до и после Тургенева. Но я столкнулся с этой ситуацией в не совсем обычном варианте — эмигрантском. Началось с того, что, отдыхая минувшим летом в горах неподалёку от Нью-Йорка, наша семья встретилась с юношей лет 18. Он приехал на курорт с дедушкой. О родителях не вспоминал и, похоже, не поддерживал с ними никакого контакта. Юноша (назовем его Борисом) явно страдал от одиночества, но не умел сойтись с отдыхавшими там же ровесниками. Мы с женой уделили ему внимание, и он прибился к нашей пожилой семье. Мы стали вместе гулять, беседовать. Оказалось, что Борис начитан, хорошо знает мировую философскую литературу. Но ни пошутить, ни поболтать о чём-нибудь весёлом он совершенно не способен. У этого выпускника последнего класса средней школы, как выяснилось, и девушки-то знакомой не было. Он с грустью рассказывал, что на родине осталось у него много любимых друзей, но дружить с американскими ребятами от за три года эмиграции так и не научился, Медики прописали ему какое-то лекарство против депрессии, но таблетки не действуют. Молодой человек этот и сейчас звонит нам, мы с ним изредка встречаемся, но, как и летом, он остаётся скованным, замкнутым, одиноким. В разговорах с горечью вспоминает Россию, как страну, в которой чувствовал себя совершенно нормально. Америка ему чужда, и как прорвать барьер одиночества, он абсолютно не понимает…
Судьба другого юного россиянина, которому расставание с родиной принесло еще более печальные последствия, открылась мне из письма, опубликованного два года назад в "Новом русском слове". Олега Пинского привезли в Америку в семнадцать лет. Это было в 1981 году. "Вы не поверите, — пишет Олег, — но ехать в США я совсем не хотел. Жалко было бросать дедушку и многочисленных друзей. Я был против отъезда в непонятную мне страну. Но мама и отчим много месяцев уговаривали меня, и я поддался на уговоры". В эмиграции мама и отчим принялись стремительно устраивать свою заокеанскую жизнь, совершенно не интересуясь сыном. Олег же, не разбираясь в американских делах, ввязался в компанию, которая незаконно перевозила из Мексики в США наркотики и оружие. Преступников схватили и недавние американские "приятели" заложили русского подростка, выдали его властям за главаря и идеолога банды. Противодействовать лживым показаниям американцев Олег не сумел и получил 39 лет тюрьмы. Вот уже 15 лет сидит он за решёткой.
Я написал ему в Калифорнийскую тюрьму и в ответном письме он поделился своими переживаниями. В частности, писал о мучительной ностальгии по тем московским улицам, где прошли его детство и юность. "Старый Арбат, Гоголевский бульвар, переулок Аксакова…. Когда я думаю о них, сердце у меня изнывает по родине…". В том многостраничном пришедшем из тюрьмы письме снова и снова всплывают подробности прошлой жизни автора: бытовые детали прошлых лет, фамилии известных в прошлом людей искусства и науки, с которыми соприкасались родители Олега. Каждое такое упоминание мой новый знакомец явно воспринимает как болевой укол.
Читая письма молодого заключённого (теперь уже и не такого молодого, очевидно, сегодня ему 34 года), я задумался над часто упоминаемым в эмигрантской среде тезисом: дескать, молодёжь переносит расставание с родиной значительно легче, чем люди зрелого возраста, а тем более старики. В 15–19 лет наши дети якобы врастают в жизнь чужой страны с меньшим напряжением, нежели их родители. Я поговорил по этому поводу с психологом, работающим с детьми эмигрантов и, увы, услышал от него то, о чём подозревал и прежде: молодым эмиграция даётся порой не легче, а тяжелей, чем нам, старикам. Переживания такого рода знакомы как еврейской, так и этнически русской молодёжи. Пример тому семья Ф., о которой и пойдёт наш рассказ.
Супруги Антонина и Петр Ф. Со своим тогда ещё 19-летним сыном Мишей поселились в нашем доме 5 лет назад. При первом знакомстве, которое произошло в подвале возле стиральной машины, высокая изящная Антонина расположила нас к себе. Она выразила уверенность, что в Америке они с мужем инженером найдут всё, о чём мечтали дома: хорошую работу, хорошие деньги и возможность выучить сына, сделать его серьёзным специалистом. Меня, врождённого оптимиста, такой взгляд новоприезжих даже растрогал. Мы с женой, прожившие в Америке уже два десятка лет, пригласили Антонину, не стесняясь, заходить к нам в случае нужды. Она ответила, что общение со старожилами для их семьи чрезвычайно важно. И действительно, не прошло и двух дней, как вся семья Ф. явилась, как они сказали, за консультацией. Нам особенно понравился их сын Миша: красивый в родителей, стеснительный, молчаливый юноша. Да и Петр, рослый, с доброжелательным взглядом русак, нас не оттолкнул. Уже после получасовой беседы стало ясно, что роль капитана на семейном корабле принадлежит женщине. Сам по себе этот факт, на мой взгляд, ничего, ни дурного, ни хорошего не означает. И такие семьи бывают счастливыми.
Супруги, не скрывая, поведали, что вызвала их в Штаты приятельница-еврейка, но дальше им самим надо решать, как зацепиться за эту страну. В бывшем Советском Союзе они нарочно перебрались из Воронежа в одну из Среднеазиатских республик. Это, как им объяснили, необходимо, чтобы, добравшись до США, можно было жаловаться на национальные преследования и притеснения со стороны местных жителей. Откровенно говоря, трюки, которые затеяла Антонина, мне пришлись не по душе, но сама она ничего недостойного в своём "проекте" не видела. Даже бросила мимоходом фразу: "Вам-то, евреям, хорошо, а нам, русским, чтобы американцы нас обратно не выпроводили, надо всё время что-то сочинять, придумывать." Мужчины в тот вечер в основном молчали. Только уходя, уже в коридоре, муж не слишком громко заметил, что покидать страну своего рождения он не хотел, да и сын-школьник упрямился. Но мама настояла. Продолжение этой темы последовало месяца два спустя, когда в центре Манхеттена на Бродвее я лицом к лицу встретился с Мишей. Юноша раздавал прохожим рекламные листки. Такой работой зарабатывают себе на хлеб многие новоприезжие россияне и я, шутя, поздравил парня с первой американской службой. Он не улыбнулся, а наоборот, помрачнел. С отвращением потряс пачкой рекламных листков и фыркнул, явно обращая своё раздражение к родителям: "Ради этого попёрли за океан?" Миша был серьёзно расстроен. Я пригласил его зайти к нам в ближайшее воскресенье, но он с ещё большим раздражением махнул ненавистными листками. Оказывается, по воскресеньям мать таскает семью в церковь. "Вы — верующие?" — поинтересовался я. Выяснилось, что независимо от религии, Михаил Бога чтит, но ему противно, когда люди врут Господу. В частности, мать ходит в церковь только потому, что, как прихожанке, ей обещали помочь стать американской гражданкой. Пастор или священник якобы готов ей как-то помочь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/books/1144690/mark-popovskij-my-tam-i-zdes-razgovory-s-ros.webp)