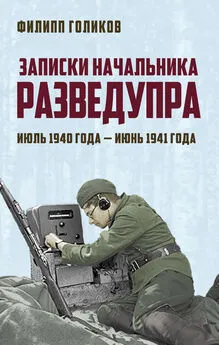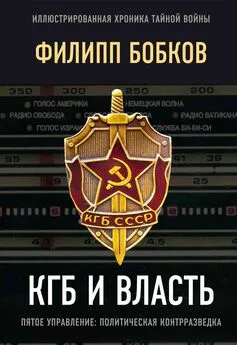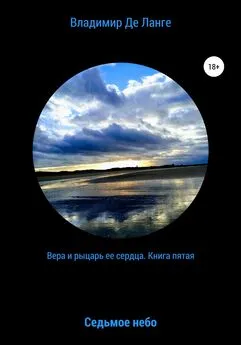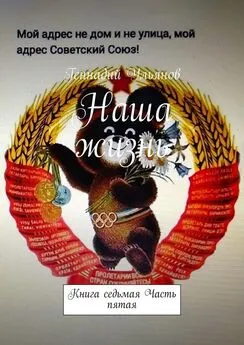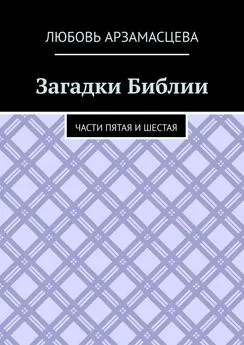Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая
- Название:Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Архив
- Год:1891
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая краткое содержание
Множество исторических лиц прошло перед Вигелем. Он помнил вступление на престол Павла, знал Николая Павловича ещё великим князем, видел семейство Е. Пугачева, соприкасался с масонами и мартинистами, посещал радения квакеров в Михайловском замке. В записках его проходят А. Кутайсов, князь А. Н. Голицын, поэт-министр Дмитриев, князь Багратион, И. Каподистрия, поколение Воронцовых, Раевских, Кочубеев. В Пензе, где в 1801–1809 гг. губернаторствовал его отец, он застал в качестве пензенского губернатора М. Сперанского, «как Наполеона на Эльбе», уже свергнутого и сдавшегося; при нём доживал свой век «на покое» Румянцев-Задунайский. Назначение Кутузова, все перипетии войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, первые смутные известия о смерти Александра, заговор декабристов — все это описано Вигелем в «Записках». Заканчиваются они кануном польского мятежа. Старосветский быт, дворянское чванство, старинное передвижение по убогим дорогам с приключениями и знакомствами в пути, служебные интриги — все это колоритно передано Вигелем в спокойной, неторопливой манере.
Издание 1892 года, текст приведён к современной орфографии.
Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Меня везли шибко, несмотря на пески, которые встречались часто по соседству с большой рекой. Вечером приехал я в большое, богатое селение Каховку над Днепром, основанное начальствовавшим тут графом Каховским, но не принадлежащее уже его потомству. Март вдруг опять сделался угрюм и суров; воздух охолодел, тучи нависли, когда рано поутру оставил я Каховку. Я спешил в Крым, надеясь, что там, наконец, согреет меня вешнее солнце, и опять ошибся.
Глубокий ров, прорытый татарами поперек перешейка, отделяющего полуостров от твердой земли, при самом въезде в Турецкой Ор-Капи (наш русской Перекоп) существовал еще, и на нём по-прежнему была застава, у которой меня остановили. Пока прописывали в ней мою подорожную, 15 марта во втором часу пополудни, предстали мне вместе Юг и Север: проходил небольшой табун верблюдов и большими хлопьями посыпал снег. Грустно мне стало, и еще более, когда остановился я в бедном городе, состоящем из одной улицы широкой и грязной. Ничто не может быть отвратительнее дороги из Перекопа в Симферополь: безводная степь, на которой всё произрастающее мрачного оливкового цвета; зимой в большую грязь по ней нет почти проезда, немного высыхает она к концу февраля, летом же в сухое время, если лошади хороши, пространство сие обыкновенно пролетают. Вот отчего в самом жалком состоянии находились станционные домики, на которых никто не останавливался. Я принужден был однако сие сделать на второй станции Дюрмень; мне сказали, что по всей дороге на ней одной могу я найти теплую комнату с печью, а на всех же других всю зиму нечем топить. Писарь уступил мне эту конурку, и я проспал в ней на каком-то сундуке. Снег выпавший накануне скоро исчез; 16 числа было светло и холодно; земля не довольно увлажилась, чтобы препятствовать моей езде, и один предмет, обратив на себя мое внимание, постоянно развлекал меня: в виде белого пара, не высоко над землею, подымался Чатыр-даг, по нашему Палат, гора; он всё более густел, подымался и образовал из себя большое облако на краю горизонта; скоро заблистал он от солнечных лучей, которые отражал снег покрывающий его вершину, и мне, никогда не бывшему на Кавказе, показался он наконец Эльбрусом, огромным, величавым, воспетым Пушкиным. Я тогда подъезжал уже к Симферополю.
Если Чатыр-даг подобно Везувию не изрыгает пламени и не так известен целому миру, то и Симферополь, близ подошвы его построенный, весьма далеко не сходствует с Неаполем. Переехав вброд через Салгир, который почитал я речкой и в котором нашел только быстрый поток, увидел я себя на бесконечном поле, среди коего достраивалась довольно хорошей архитектуры соборная церковь; по бокам же в довольно дальнем от неё расстоянии были два двухэтажные каменные здания: присутственные места и странноприимный дом Таранова-Белозерова. Вот весь настоящий Симферополь, или лучше сказать тогдашний. За пределами поля находилось татарское селение Акмечеть, под русским управлением обратившееся в татарской городок. Вид на него снаружи был довольно приятен; из-за красных черепичных кровель подымались пять-шесть минаретов, перемешанных с высокими раинами; внутренность же была совсем не привлекательна: в нём были узкие, кривые, неопрятные улицы с домами на дворе, с каменными запачканными стенами или с грязными лавками на лицо. Впрочем, хотя гораздо менее оставленного мною Кишинева, он мне более полюбился: в нём была истинно азиатская физиономия, а в том никакой, как на безобразном лице без всякого выражения. Я знаю, что чрез несколько лет поле покрылось правильными улицами и домами, что новый город, примкнув к старому, спутался с ним, что имя Акмечети забыто даже между татарами и что, по мнению некоторых, изо всего вышла блестящая, новая столица бывшего Крымского ханства, в чём однако я имею причины сомневаться.
На самом рубеже предполагаемой Европы и существующей Азии, стоял двухэтажный трактир под громким названием Одессы; в нём я остановился. Мне отвели в верхнем этаже целую половину его, которая состояла из одной небольшой комнаты и другой пребольшущей. О спокойствии останавливающихся в ней хозяева, видно, мало заботились: замки были все переломаны, двери плохо притворялись, окна тоже, отовсюду дуло, снизу сквозь пол слышны были голоса, и самые половицы под ногами подымались и опускались как клавиши. И в этой комнате, как сказали мне, целую зиму провел несчастный Батюшков; следственно в ней осаждали его мрачные думы, более расстраивались его нервы, усиливалось его сумасшествие, и в ней посягнул он раз на собственную жизнь. Через год после него два месяца изнывала в ней баронесса Крюденер, давно без обожателей, давно уже и без слушателей, в добровольной ссылке, не менее того для неё жестокой; из неё с отчаянием отправилась она умирать в Старый Крым. Я всегда был немного суеверен; не имея ни известности, ни дарований сих особ обоего пола, не мог я и опасаться одинаковой с ними участи; несмотря на то, исполнился я тоски. Вечером явился ко мне великий плут, итальянец Томазини, с предложением услуг, с большою живостью в движениях и с вечно смеющимся лицом, и не мог развеселить меня. Он был тут в трактире проездом в Керчь, где по подряду строил карантин и таможню, и от того искал моего знакомства, чтобы не сказать покровительства.
На другой день, 17-го, сделалось опять тепло. Когда солнце примется тут греть, в какое бы то время года ни было, то скоро начнет и печь. Меня это несколько развеселило и я имел в этот день случай видеть довольно любопытный феномен: пока солнце сияло над Симферополем, видно было, что на Чатыр-даге идет сильный снег. Пользуясь погодой, отправился я с посещением к губернатору, который за неимением казенного дома жил в собственном им самим построенном, в четырех или пяти верстах от города, в прекрасной долине. Деревья еще не распускались, но кустарники там все уже покрыты были листьями.
Мне был несколько знаком Димитрий Васильевич Нарышкин; мы с ним виделись в Мобёже и в Одессе. Будучи сыном Анны Ивановны, урожденной гр. Воронцовой, он приходился внучатным братом нашему генерал-губернатору, который его отменно любил. Воспитание получил он французское, аристократическое, служил в гвардии, потом в достославную нашу войну три года сряду находился при родственнике своем, который ни себя, ни окружающих своих в сражениях не щадил, за то и старался их быстро повышать. При корпусной квартире в 1818 году видел я его уже молоденьким полковником; после того получил он дозволение остаться во Франции, женился на дочери графа Растопчина и вышел в отставку. В 1823 году, по представлению Воронцова, с чином статского советника, получил он место Таврического губернатора. Вот вкратце формуляр его, и что к тому прибавить? Он был чрезвычайно добрый малый: похвала умеренная для правителя области. Но он был еще довольно молод, лет тридцати пяти, добродушен, прост в обращении, и имел в себе более военного, чем дворцового; с делами по возможности старался ознакомиться. Он принял меня, я думаю как и всякого, со врожденною благосклонностью, и пригласил на другой день к себе обедать. Всё напоминало у него лучший, образованнейший свет: и умная, любезная, просвещенная хозяйка, Наталья Федоровна, и дом, который походил на небольшой царской загородный дворец, и отличное убранство комнат; всё прочее тому соответствовало. Посетил я также и вице-губернатора Никанора Лонгинова; он тут начинал уже жить домком, в опрятной и хорошей квартире над Салгиром и раза два звал меня обедать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

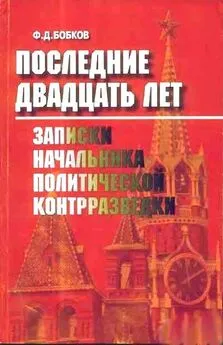

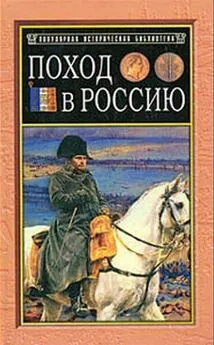
![Филипп Шотт - Случайный ветеринар [Записки практикующего айболита]](/books/1059404/filipp-shott-sluchajnyj-veterinar-zapiski-praktikuyu.webp)