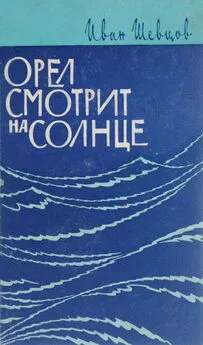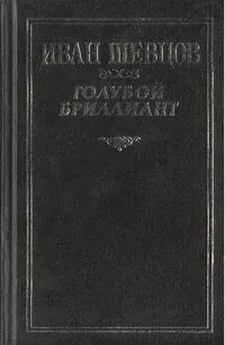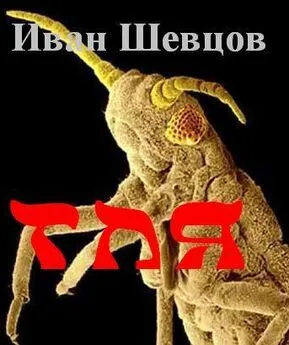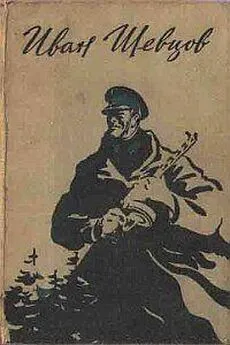Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце
- Название:Орел смотрит на солнце
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия»
- Год:1963
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце краткое содержание
«У нас в Крыму говорят, что глядеть прямо на солнце могут только орлы. Я думаю, что писатель своим мысленным взором всегда должен видеть свое солнце. Это солнце каждого из нас — Родина, Советская Россия!»
О горном орле нашей отечественной литературы, о большом художнике слова Сергееве-Ценском и рассказывает книга Ивана Шевцова «Орел смотрит на солнце».
Впервые эта книга под названием «Подвиг богатыря» была издана небольшим тиражом в 1960 году на родине Ценского, в Тамбове, и уже стала библиографической редкостью.
В настоящее, массовое издание автор внес некоторые исправления и дополнения.
Орел смотрит на солнце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По Волге он плыл до Самары. Стояло жаркое лето.
В помятом старом костюме, в запыленной, запачканной мазутом шляпе, в поношенных ботинках ходил по палубе от борта к борту смуглый стройный мужчина и все глядел на поля, проплывавшие мимо, пристально щуря глаза, точно искал что-то, высматривал. Он обращал на себя внимание пассажиров. И здесь некоторые его принимали за «злодия». Курсистки бестужевских курсов предусмотрительно брались за свои чемоданы. Его это забавляло, и он с задором юноши стал разыгрывать из себя вора. Курсистки встревоженно шептались, когда он к ним подсел, боязливо посматривали на «явного разбойника», который, как им казалось, и не скрывал своих намерений. Они уже готовы были обратиться к «начальству», когда на палубе неожиданно появился их профессор, Батюшков, член редколлегии «Современного мира». Ему-то и хотели напуганные курсистки сообщить о подозрительном соседе.
Но Батюшков, не обращая на них внимания, распростер объятия и, к удивлению курсисток, направился к тому, кого они принимали за вора.
— Сергей Николаевич!.. Каким ветром?
— Попутным, Федор Дмитриевич, — ответил Сергей Николаевич, немного смущенный неожиданно прерванной игрой, и лукаво посмотрел на курсисток.
Тогда и профессор обратился к девушкам:
— Вы что-то хотели мне сказать?..
— Мы… мы хотели… — растерялась одна из них под насмешливым взглядом Сергея Николаевича.
— Барышни, очевидно, хотели просить вашей защиты, — весело сказал Сергей Николаевич.
— Защиты? От кого? — удивился Батюшков.
— От вероятного вора, — все так же шутливо говорил Сергей Николаевич. — То есть от меня. Я не ошибаюсь?
Курсистки смутились, а одна призналась:
— Верно.
— Да что вы, бог с вами, что вы такое говорите? — не понимал профессор. — Да вы знаете, кто перед вами? Знаменитый писатель Сергеев-Ценский, автор «Лесной топи», «Бабаева» и других великолепных произведений!
История эта кончилась тем, что в Самаре курсистки вместе с писателем и профессором сошли на берег и заставили Сергея Николаевича купить новую шляпу, костюм и даже бумажник.
Сергей Николаевич не был беден или жаден: он просто не обращал на себя внимания, был равнодушен к внешнему лоску и блеску.
В Самаре он долго не задержался: спешил в Алушту, не терпелось скорее сесть за письменный стол. Впрочем, выражение «за письменный стол» для Сергеева-Ценского не совсем подходит. Он редко писал свои произведения за письменным столом. Работал обычно сидя, полулежа, в кресле, в постели, на скамейке в саду или на камне. Клал на колени столистовую тетрадь и писал, чаще всего карандашом.
Так и теперь, возвратясь из далекой и сравнительно долгой поездки, он с воодушевлением засел за «Печаль полей». Пожалуй, никакое произведение не давалось ему так трудно, как это. Он был в данном случае слишком требователен к себе, каждую фразу тщательно взвешивал, каждый образ и характер долго вынашивал.
Ранней весной 1909 года, когда в саду зацвел миндаль, Сергей Николаевич закончил чудесную поэму «Печаль полей», которую Максим Горький назвал своей любимой вещью.
В «Печали полей» много знакомых мотивов, знакомых по предыдущим произведениям Ценского, по «Саду», «Бабаеву» и другим. Это не повторение самого себя; это углубление большой и непреходящей темы, давно волнующей писателя: есть ли силы на Руси, способные переделать жизнь великого и многострадального народа; где эти силы? Кто носитель будущего России, в ком ее надежда? На ком держится русская земля?
И внимательный аналитический взгляд писателя устремлен в гущу русского общества, не к верхушке его, а к корням, вросшим в землю, питавшую их.
Широкой размашистой кистью пишет художник свое просторное, как Россия, суровое от тоски и печали полотно. И в нем в совершенно реальных предметах и красках звучит нечто огромное и символическое. «Над полями, уползающими за горизонт, опоясанными длинными дорогами, логами, узкими оврагами, не слышно и не видно, но плотно и тяжело повисло нерожденное. Что-то хотела родить земля, — что? — не леса, не горы, не тучи, — что-то хотела родить и не могла».
Что же хотела родить земля? Счастье человеческое, такую новую жизнь, где всем людям было бы хорошо и все люди трудом и гением своим украшали бы землю. А без этого «грустят весенние зори, грустят покосы, грустят, наливаясь, хлеба» и обездоленные люди молят небо о счастье. «Молитва была бессвязная, как вздохи полей: о том, чтобы зори были росисты насквозь от земли до неба, чтобы густо били перепела по ночам и жаворонки пели, чтобы розовые, туго налитые ребячьи ноги не кололо сухой травой, чтобы текло все кругом, не уставая, сытным молоком и медом».
Но небо было равнодушно к молитвам. И люди должны были делать судьбу свою. Какие люди?
Землей владели те, кто не любил и не понимал землю. Где уж им помочь разродиться земле, когда они сами были бесплодны — вырождались.
Помещики Ознобишины считали себя сильными хозяевами земли; на деле они уже не были настоящими хозяевами, и сила их безнадежно таяла, уходила. Еще жив был глава рода — столетний прадед. Но это был живой труп. Сын столетнего — дед Ознобишин — на первый взгляд может показаться сильным и деятельным. Он постоянно носится по большим ярмаркам, по городам, ворочает крупными делами, капитал делает. Но «движется» он скорее по инерции, потому что видит — впереди пустота, и деятельность его будет бесплодной. По инерции живет этот класс, у которого нет будущего. Прадед когда-то был одержим жаждой наживы. Он много награбил. Сын его приумножил капитал. Но правнук — последний из рода Ознобишиных, которому достался весь капитал, — уже не может продолжать «дела» своих предков. И не потому, что он не способен — главное тут не в личных качествах, — времена пришли другие, люди не те стали кругом. Ознобишины владеют землей. Этого им недостаточно, — они строят завод; строит правнук, но делает он это без всякой цели и энтузиазма. «Я не знаю, зачем завод, — это правда, — признается он. — И когда начал строить, тоже не знал. У моего прадеда стоял в подвале сундук, обитый железом, а в нем — деньги. Остатки сундука достались мне, из них вот растет завод, просто, как из зерна дерево».
Да, но дерево с гнильцой, оно долго не простоит. Оно как столетний прадед: «Жив еще, а уже мертвый».
Сильно, психологически тонко показана писателем неминуемая гибель Ознобишиных и их класса. Пожалуй, лучше всех это видит дед. Он видит даже физиологический конец рода своего. Продолжения Ознобишиных не будет. Жена молодого Ознобишина Анна шестерых родила — и все были мертвыми. Сейчас ждут седьмого. И дед знает — седьмой тоже будет мертвый… Дед может еще шуметь, метаться, храбриться, что-то делать, в том числе, или главным образом, и подлости и мерзости, которых у него за плечами целая пропасть. А сам понимает: ни к чему все это, так, по привычке. «На людях еще храбрюсь, а один уж не то: куда ни ткну перстом, — пусто», — признается он.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: