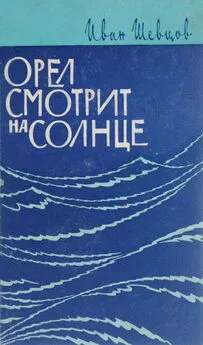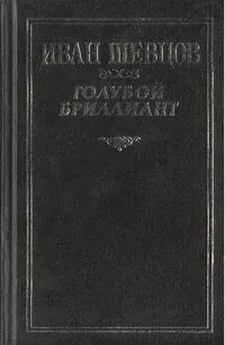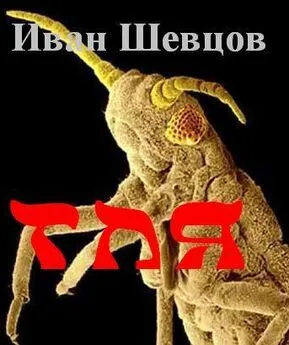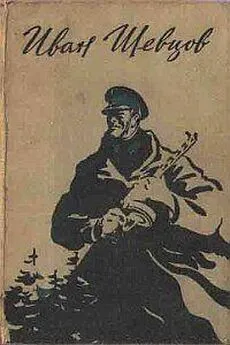Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце
- Название:Орел смотрит на солнце
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия»
- Год:1963
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце краткое содержание
«У нас в Крыму говорят, что глядеть прямо на солнце могут только орлы. Я думаю, что писатель своим мысленным взором всегда должен видеть свое солнце. Это солнце каждого из нас — Родина, Советская Россия!»
О горном орле нашей отечественной литературы, о большом художнике слова Сергееве-Ценском и рассказывает книга Ивана Шевцова «Орел смотрит на солнце».
Впервые эта книга под названием «Подвиг богатыря» была издана небольшим тиражом в 1960 году на родине Ценского, в Тамбове, и уже стала библиографической редкостью.
В настоящее, массовое издание автор внес некоторые исправления и дополнения.
Орел смотрит на солнце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда-то дед думал, что он владыка жизни, хозяин; что жизнь может повернуть, куда он захочет. Оказалось, что жизнь-то уже не слушается его. Все труднее становится Ознобишиным, меньше им места на земле, тесно, душно. «Ох, и широко же, — конца краю нет, а ступить некуда… — сокрушается дед. — То есть для ноги твердого места нет».
А ведь было время — и не так давно — бушевал он в жизни, как хотел, в свое удовольствие, гадил на земле — и все безнаказанно, потому как чувствовал силу золотого мешка. «Гулящую девицу — в лес увез. Раздел. Голую на муравейник посадил… Руки связал и рот забил… Сел на корточки около и все ей в глаза смотрел… Да ведь и зрелище!.. Муравьи ее поедом едят; корежит ее; слезы текут… А я смотрю… Долго смотрел. Безгласная: кричать ей нельзя… Смотрел и никакой жалости не чувствовал… Развязал ее потом, муравьев отряхнул… Оделась… денег дал… А то старичку одному святому бороду раз поджег спичкой. А зачем поджег? Так все… Думал: жалко станет, не подожгу».
Это уже не только биологическое, это духовное, вырождение. Хищник остается хищником во всем. Для него не существует никаких нравственных норм и категорий. Утрата человеческого облика — закон паразитического класса, социальное следствие. В этом отношении невелика разница между Ознобишиным и современными миллиардером, колонизатором или бизнесменом. Последние лишь научились носить маски для собственной безопасности. Они не всегда могут так откровенничать, как Ознобишин: «Хоть в палачи, — вот до чего дошел; костенею. На мертвых смотреть пробовал и не жалко».
Это большая заслуга художника, сумевшего еще в начале столетия увидеть и разоблачить звериную сущность представителей вырождающегося класса эксплуататоров и предпринимателей. Бабаевы, ознобишины — и прежние, обитавшие в России, и нынешние, здравствующие в странах капитала, — ив социальном и в психологическом плане не составляют исключения, а являются типичными представителями эксплуататорского класса. А ведь они были хозяевами земли, жизни, полей. Потому и грустили-печалились поля по настоящим хозяевам, по человеку, который помог бы им родить нечто великое и прекрасное. Отсюда и «Печаль полей». И этот потрясающий душу несравненной силой искусства монолог:
«Поля мои! Вот я стою среди вас один, обнажив перед вами темя. Кричу вам, вы слышите? Треплет волосы ветер, — это вы дышите, что ли? Серые, ровные, все видные насквозь и вдаль, все — грусть безвременья, все — тайна, — стою среди вас потерянный и один.
Детство мое, любовь моя, вера моя! Смотрю на вас, на восток и на запад, а в глазах туман от слез. Это в детстве, что ли, в зеленом апрельском детстве, вы глядели на меня таким бездонным взором, кротким и строгим. И вот стою я и жду теперь, стою и слушаю чутко, — откликнитесь!
Я вас чую, как рану, сердцем во всю ширину вашу. Только слово, только одно внятное слово, — ведь вы живые. Ведь ваши тоску-глаза я уже вижу где-то — там, на краю света. Только слово одно, — я слушаю… Нет. Передо мною пусто, и вы молчите, и печаль ваша — моя печаль.
Поля-страдальцы, мои поля, родина моя. Я припал к сырой и теплой груди твоей и по-ребячески крепко, забыв обо всем, целую».
С чем можно сравнить эту привольную песню щедрой души? Разве что со знаменитыми гоголевскими лирическими отступлениями.
Умерла Анна, так и не родив Ознобишиным потомства. Бросив завод, уехал последний Ознобишин. Уезжал он печальными чужими полями, а навстречу ему (а. может, на смену) ехал настоящий хозяин, богатырь Никита Дехтянский — «существо могучее, темное, пащущее, сеющее, собирающее урожаи — плодотворец полей. Ехал он из города, лежал ничком в санях на соломе и негромко пел…» Не понимал его песни Ознобишин. «Но поля понимали Никиту, и Никита понимал поля».
О Никите Дехтянском, не из «Печали полей», а о настоящем, подлинном жителе города Козлова (ныне Мичуринск), рассказывал мне его земляк, народный художник СССР Александр Михайлович Герасимов. И о нем и об Ознобишиных, но больше о Дехтянском: и как он в цирке выходил бороться с приезжими чемпионами и с маху клал их на лопатки, и о доброй, отзывчивой душе богатыря, который не знал, куда свою силу приложить.
— Так ведь это ж в «Печали полей», — заметил я Александру Михайловичу.
— В «Печали полей», в «Печали полей», — знаю, когда-то читал, мы же земляки с Сергеем Николаевичем, — заговорил, вспоминая, Герасимов. — Только я Никиту Дехтянского своими глазами, вот как тебя, видел. Мальчишкой тогда был. Такие богатыри в старое время часто встречались, считай в каждом городе свой Никита Дехтянский. Мало о нем написал Сергей Николаевич.
— Что ж, начал Никитой и им же закончил, — возразил я. Но старый художник был задумчив, должно быть, вспоминал те далекие годы. Потом сказал, добродушно улыбаясь:
— Описал он его метко, с натуры. Живой. Помнишь, как «Печаль полей»-то начинается? — И Александр Михайлович стал читать по памяти — это в 78 лет: * «Силач Никита Дехтянский, который на ярмарках на потеху мясникам и краснорядцам плясал, весь обвешанный пудовыми гирями, носил лошадей и железные полосы вязал в узлы, ехал ночью весенними полями и пел песню».
Действительно, о Никите Дехтянском можно было бы целую повесть писать, специально ему посвященную. Но и в «Печали полей», глубоко философской книге, где каждая строка заставляет читателя мыслить, образ Никиты получился достаточно выразительным и до такой степени обобщающим, что переходит в символ народа русского, в котором, как в неиссякаемом роднике, заложены животворящие силы. Никита так сжился с землей, так неотделим от нее, что писатель не смеет лепить его образ вне земли.
«Никита был приземистый и широкий во всю телегу. Лежал на свежей соломе, и видно было ему небо и поля, оснеженные луной: все те же поля, — лет сорок он видел их такими, — и небо тоже». Он думал о земле, которую любил и понимал лучше всего на свете. «Густым бездонным черноземом пахло с полей: сырой он был слышнее ночью. Никита вдыхал его широченной грудью».
И облака он понимал: «Жирные были облака и ленивые, но умные какие-то, и Никита думал о них уверенно: — Ладнаются… Утречком дожжик будет. — Старую извечную работу чувствовал Никита и понимал нутром… Разомлели поля от сна. — Родимые! — ласково думал о них Никита».
«Родимые» — это голос сердца, простого и чистого, как утренние росы. Никита был Человек, и ему органически чуждо было то звериное, что жило в Ознобишине, Бабаеве.
Никита не обижал людей, зато люди обижали его. Обидели его и этой весенней ночью ознобишинские подводчики, которые везли лес на строительство завода. Сначала обругали ни за что ни про что. Он спустил им это: характер у Никиты русский, необидчивый. Потом его задели, ударили. «Никита «осерчал не сразу. Он повернулся, взметнул глазами на черную толпу гогочущих подводчиков, провел тыльной частью руки по сутулой спине и спросил всех тихо — Это к чему же? — Потому и спросил, что не понял, зачем его ударил длинный».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: