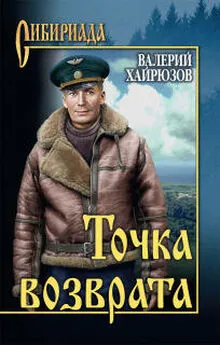Валерий Хайрюзов - Черный Иркут
- Название:Черный Иркут
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Буква Статейнова»
- Год:2018
- Город:Красноярск
- ISBN:978-5-9500641-6-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Хайрюзов - Черный Иркут краткое содержание
Два потока — Белый и Чёрный Иркут — впадают в Ангару. По бурятской легенде, Белый — вместилище добрых духов, Чёрный — тёмных, а слившись в единый поток в черте города Иркутска, они стали как бы прообразом человеческого духа, людских страстей, где нет одной краски и одного настроения.
Лётчик, командир корабля, пилот первого класса, Валерий Николаевич Хайрюзов родился в Иркутске в 1944 году. Окончил Бугурусланское лётное училище и Иркутский госуниверситет. Широкому кругу читателей стал известен за книги «Непредвиденная посадка» и «Опекун», которые были отмечены премией Ленинского комсомола. Автор книг «Непредвиденная посадка», «Почтовый круг», «Истории таёжного аэродрома», «Приют для списанных пилотов», «Последний звонок», «Капитан летающего сарая», «Колыбель быстрокрылых орлов», «Юрий Гагарин. Колумб Вселенной» и других. По его пьесам поставлены спектакли «Сербская девойка» и «Святитель Иннокентий» — отмечены главными призами Международного театрального фестиваля «Золотой витязь».
В. Хайрюзов — лауреат Большой литературной премии России. Его книги переведены на многие европейские и восточные языки.
Черный Иркут - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это были не просто писательские поездки в туристических целях. И перечисленные выше города и сёла, в которых ты побывал, складывались не в мешок туриста, откуда зачастую ничего нельзя достать. Всё собиралось и складывалось в некое полотно, где всему было своё место. С некоторым удивлением я встречал сибиряков, которые родились на берегах Ангары, но по каким-то причинам откочевали обратно в земли курские и белгородские. Мне всегда казалось, что нет земли краше, чем наша, ангарская. И на то были свои подтверждения. Помню, когда я поступил в лётное училище, то, с детства привыкший ко всему добротному, бревенчатому, обнаружил на бугурусланской земле сёла с земляными полами, соломенными крышами и стенами из кизяка. Но, приехав на Белгородчину и пройдя по мощёным улочкам районных городков, вдруг понял: не всё так в России плохо, можно, оказывается, по-хозяйски, без бревенчатых стен и соломы с кизяком, обустраивать свою жизнь. Вот и потянулись земляки на свою прародину. Из поездок мы привозили впечатления, строчки стихов, новые сюжеты для своих рассказов и повестей. А потом выходили книги: «От Донбасса до Байкала», «Колумб Вселенной», «Нам курсантские снятся погоны», «Воздушный меч России», «Георгий Жуков». Каждый привозил домой своё. Общие впечатления и незаметные, но памятные для души строчки. Из поездки в Севастополь я, например, привёз сочинённый на ходу в автобусе стих: «В Крыму у древнего города Саки я рвал у дороги красные маки. А после сидел у оконца с охапкой крымского солнца».
Не Бог весть что, но при воспоминании о полыхающих вдоль крымских дорог маках перед моими глазами тут же вставал тот нежный, полыхающий теплом букет. И там я встретил своих земляков.
Большинство этих выездов из Москвы было уже организовано Валерием Николаевичем Ганичевым. Я не погрешу, но истинным вдохновителем этих вылазок, их идеологом была, конечно же, Светлана Фёдоровна.
Почему-то больше других мне запомнились поездки в Орёл и Белгород. Орёл — понятно; тот писательский пленум прошёл сразу же после расстрела Белого дома. Встал вопрос: как жить дальше писательскому сообществу? Валерий Николаевич решил собрать пленум в литературной столице России. В поезде мы ехали вместе с замечательным русским поэтом Николаем Старшиновым. Он расспрашивал меня про наше осадное сидение в Белом доме, что видели и как там всё происходило. Кто-то из соседей осторожно стал расспрашивать его о Юлии Друниной.
Я тут же вспомнил, что присутствовал у неё на семинаре, который проходил летом 1974 года в Иркутске. Мне она запомнилась красивой и молодой, в чёрном строгом костюме и белой кофточке. И ещё тогда я отметил её густые золотистые волосы. Ещё сказал, что часть лица у Друниной показалась мне как бы замороженной.
— Это у неё от ранения осколком в шею, — сказал Старшинов. — Замечательная была женщина! И тогда я прочёл посвященное войне стихотворение Юлии Друниной:
Я ушла из дома в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привычный сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем Россия,
Не смогла сыскать.
На посиделках в нашем купе оказалась Светлана Фёдоровна. Она сидела, слушала наш разговор, затем тихо прочитала неизвестное мне на тот момент последнее стихотворение Друниной:
Ухожу, нету сил. Лишь издали
(Всё ж крещёная!) помолюсь
За таких вот, как вы, — за избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
Я слушал Светлану Фёдоровну и почему-то вспоминал октябрьские дни девяносто третьего года. Сразу же после расстрела Белого дома я, раздавленный и побитый депутат Верховного Совета, пришёл к Ганичевым домой, и они на несколько дней укрыли меня в своей квартире. Тогда вечером Валерий Николаевич принёс мне ручку, пачку чистой бумаги и сказал:
— Не теряй времени даром. Пиши, что видел, прямо сейчас. Дальше многое забудется. Иди по свежим впечатлениям.
Я заперся в дальней комнате и начал писать повесть, взяв в эпиграф первые строки стихов, которые вынес из расстрелянного Белого дома:
Плачь, милая, плачь!
Ты своего не узнаешь лика,
Вот что сделал с тобой
--всенародно любимый палач,
Пьяный владыка.
Поездка в Белгород почему-то напомнила мне наши давние встречи в Пицунде. Там такой же тёплой весной мы с Серёжей Котькало, с которым познакомились ещё во время осады Белого дома, тёмным вечером наломали у белгородских частников веток сирени и принесли их Светлане Фёдоровне, Марине и Гале Бушуевой, которая приехала на пленум с детьми из Николаева. Тёплыми вечерами мы вместе с Мариной, Галей и поэтессой из Архангельска Леной Кузьминой, как и в Пицунде, все дни напевали песню на стихи Николая Рубцова «Синенький платочек»:
О том, какие это были дни!
О том, какие это были ночи!
Издалека, как синенький платочек,
Всю жизнь со мной прощаются они…
О том, какие это были дни!
О том, какие это были ночи!
Но вернёмся к вечерам абхазским. Поэты — народ особенный. Скажи им доброе слово — они будут помнить его всю свою жизнь. Там, в Пицунде, мы то и дело устраивали поэтические вечера. Зрителей и слушателей хватало, Дом творчества был заполнен отдыхающими, они с удовольствием ходили на наши поэтические вечера. Мы выступали по кругу, один за другим. Вёл вечера обычно Миша Кизилов, поскольку тогда нас называли птенцами гнезда Кизилова. Ему, как говорится, были и карты в руки. Ганичевы и приглашённые абхазские гости, поэты и журналисты, усаживались среди зрителей. Наверное, со стороны мы тогда напоминали выпущенных из вольер уже не щенков, но ещё и не взрослых лаек. Это сравнение мне пришло в голову, когда я вспомнил, что на семинаре Андрей Скалой утверждал, что миссия писателя, как и сторожевой собаки, — следить за окружающим пространством и предупреждать хозяев о надвигающей опасности.
Обычно первым со своими стихами выходил Толя Пшеничный:
Что бы я без друзей
Значил и что б я мог? —
Был бы я как музей,
Где на двери — замок.
Был бы я как закат —
Не согревал собой.
Был бы деньгой богат,
Был бы я нищ судьбой!..
…Пусть сияют, завлекая,
Чужедальние края.
Там, где матушка родная,
Там и родина твоя!..
Зрителям наши вечерние встречи были интересны тем, что прямо перед глазами открывались не только новые для них имена, но и поэтическая панорама молодой России. Тут же на смену вставал очередной пиит, краснодарец Юра Гречко. Он делал ответный ход, или, как он выражался, озвучивал ответ Чемберлену, хорошо зная, что Пшеничный приехал в Пицунду «из-за бугра»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
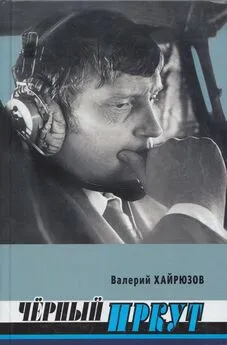
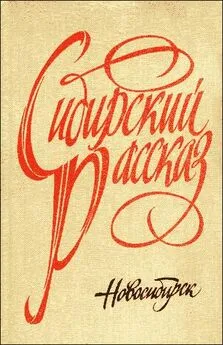
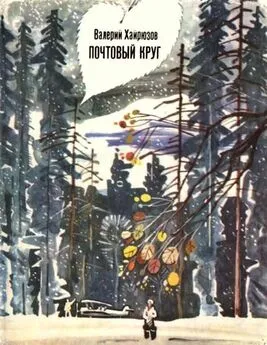
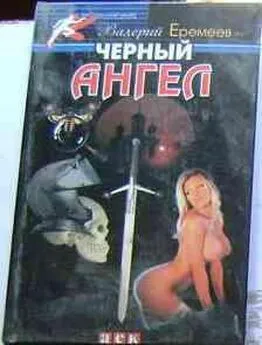
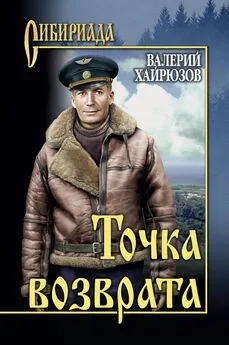
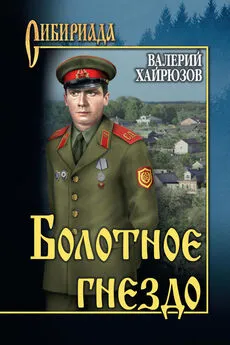
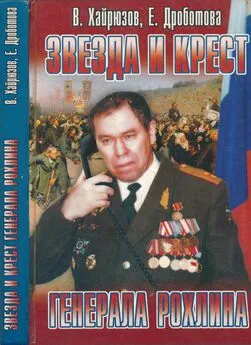
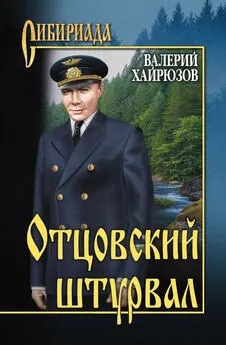
![Валерий Хайрюзов - Приют для списанных пилотов [Повести и рассказы]](/books/1097627/valerij-hajryuzov-priyut-dlya-spisannyh-pilotov-pove.webp)