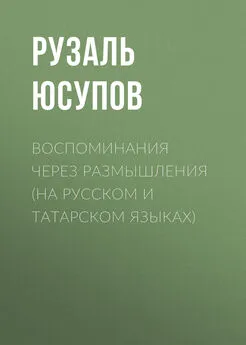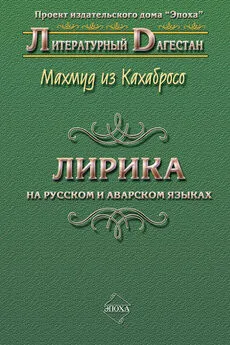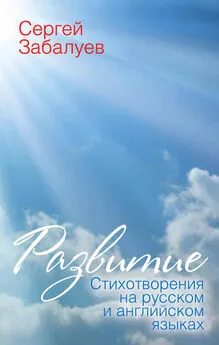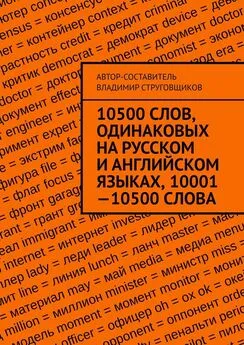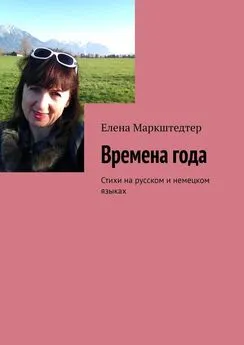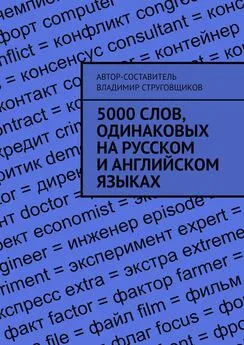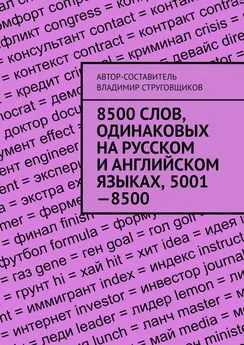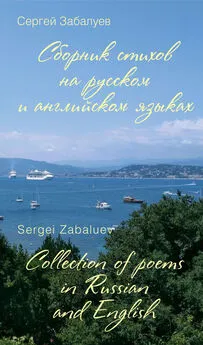Рузаль Юсупов - Воспоминания через размышления (на русском и татарском языках)
- Название:Воспоминания через размышления (на русском и татарском языках)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2013
- Город:Казань
- ISBN:978-5-298-02450-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рузаль Юсупов - Воспоминания через размышления (на русском и татарском языках) краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Воспоминания через размышления (на русском и татарском языках) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сначала, когда мы были ещё совсем маленькими, сев верхом на лошадь, месили жидкую глину вперемешку с мелкой соломой. Когда масса становилась однородной, её раскладывали в формы и сушили на солнце – получался саманный кирпич. Из него складывали стены фермы. Правда, надолго такого кирпича не хватало, через несколько лет он разрушался от дождей.
Во время уборки урожая работы выполнялись следующим образом. Поскольку в те времена комбайнов не было, поспевшую рожь косили при помощи лобогрейки, которую тащила лошадь. Скошенные стебли женщины связывали в снопы и укладывали в копны. Эта работа называлась «вязать снопы».
Затем снопы, погрузив на телегу, привозили в овин. Там они проветривались, подсыхали в ожидании обмолота. На гумне стояла специальная молотилка. Она работала не от бензинового двигателя, а при помощи так называемого «привода» – специального приспособления, приводившегося в движение при помощи конной тяги. «Привод» устанавливался на гумне. В середине него было расположено устройство с большой осью – своеобразное колесо с лопастями в виде четырёх длинных жердей, с сужающимися концами, прикреплённых к колесу на равном расстоянии друг от друга. К концам этих жердей привязывали лошадей: к каждому крылу по лошади. Двигаясь по кругу, они крутили колесо. Прикреплённая к колесу ось приводила в движение молотилку. В неё с одной стороны совали снопы, с другой стороны выходила солома, вниз сыпалось зерно. Зерно собирали и тут же, подбрасывая лопатами в воздух, провеивали, очищая от мякины. Затем солому на лошадях отвозили в сторону от гумна и складывали в скирды. Эта часть работы называлась «ставить скирду».
Так вот, погонять лошадей, раскручивающих «привод», поручалось таким мальчишкам, как я. Года два я участвовал в этой работе. Потом, когда немного подрос, мне стали доверять возить солому к скирде. Это была довольно ответственная и сложная работа. Солому, выходящую из молотилки, женщины складывали в копну, я должен был арканом подхватывать её снизу, затягивать аркан и фиксировать его сзади копны толстой палкой, затем, прижав ногами аркан и палку и одновременно управляя при помощи вожжей лошадью, волоком довозить копну до скирды. Эта работа называлась «вывозить солому».
Несколько раз я участвовал в более серьёзной работе – возил на лошади снопы с поля. Снопы подавали женщины специальными деревянными вилами, а я, стоя на телеге, складывал их один на другой. Вскоре воз становился довольно высоким, и довезти его, не опрокинув, до овина – дело довольно сложное: хитрость в том, что для устойчивости груза надо уметь равномерно складывать снопы. Не могу сказать, что я стал большим мастером в этом деле: однажды по дороге к овину мой груз опрокинулся…
Года два летом я выходил пасти лошадиный табун. Днём эта работа совсем нетрудная, для мальчишек даже интересная. А вот ночью – другое дело. В те годы возле деревни то и дело появлялись волки, к тому же ночью и спать очень хотелось.
Один эпизод, связанный с этим, крепко запечатлелся в памяти. Пастухов при табуне обычно бывает трое. В ту ночь главный табунщик – Вали-абый – охранял лошадей на вершине холма, на границе с озимым полем (не забывая о том, что могут появиться волки), а мы с мальчиком по имени Ванцит расположились внизу, возле огородов. Уже светало, когда мы, то и дело отгоняя лошадей от огорода, заметили шалаш сторожа. Решив немножко посидеть, мы забрались в шалаш. Однако «посидеть» не получилось: когда мы открыли глаза, солнце стояло высоко, табуна не было – Вали-абый увёл его в одиночку… Хорошим он был человеком, понимал ребятишек, он и ругать нас потом не стал, посмеялся только по-дружески, мол, «кулёмы сонные»…
Ну, что же, наверное, довольно! Я, кажется, рассказал достаточно много о той работе, которую мне пришлось выполнять – по-детски и не только по-детски – в этот короткий промежуток моей жизни, называемый детством… Пора рассказать и о другом. И самое главное среди «другого» это, разумеется, учёба!
В те годы детей принимали в первый класс только после достижения семи лет. В моём случае к началу учебного года мне не хватило до заветной цифры совсем чуть-чуть. В середине учебного года мне нестерпимо захотелось в школу. С помощью старших братьев я научился читать, писать и считать. Откуда-то мне достали азбуку, сколотили из фанеры сумку и покрасили её в красный цвет. Я начал донимать родителей: хочу в школу! После моих настойчивых просьб кто-то из них – то ли отец, то ли мать – переговорил с заведующим школой (в нашей деревне тогда была лишь начальная школа, поэтому был не директор, а заведующий). Тот сказал: раз уж мальчик так сильно хочет, пусть ходит, место найдётся – попривыкнет, на следующий год учиться будет легче (к тому времени уже закончились зимние каникулы и началось второе полугодие).
И однажды утром я взял свою красную фанерную сумку и отправился в школу. Урок ещё не начался. Отыскав первый класс, я сел за последнюю парту, сумку засунул под парту. Так начался мой школьный период жизни. И в тот же год я с оценками «4» и «5» перешёл во второй класс.
Когда я заканчивал четвёртый класс, нашу школу реорганизовали в семилетнюю. Для меня это было большой удачей, потому что до этого детям с пятого по седьмой класс приходилось учиться в соседней деревне Кишит. Зато ребята из деревни Симетбаш, ходившие в школу в Новый Кишит, начали ходить в нашу школу. До сих пор, вспоминая, жалею тех детей: 11–14-летним ребятишкам приходилось дважды в день пешком преодолевать расстояние в три километра между деревнями Симетбаш и Кышкар. А каково им приходилось в зимние трескучие морозы или в бураны!
В школе я всегда учился хорошо – только на «пятёрки». Учителя ставили меня в пример. Когда заканчивали седьмой класс, учитель Шамиль-абый после экзамена по математике даже привлёк меня к проверке письменных работ моих одноклассников: когда класс разошёлся, мы с ним вместе проверили все работы.
Наконец свидетельство об окончании семилетки лежало у меня в кармане. Что теперь делать? В те годы мальчишки вроде меня, как правило, поступали на учёбу в ремесленные училища. Резон был. На протяжении двух лет тебя бесплатно кормят, одевают, дают место в общежитии и обучают ремеслу.
Но я не пошёл по этому пути. Мне в голову взбрела идея, что я должен учиться в техникуме. В те годы в Казани было несколько техникумов. Разузнав, что престижными считались механико-технологический, химико-технологический и авиационный, я рассчитывал поступить в один из них. Однако обстоятельства оказались против меня: по окончании школы мне забыли выдать почётную грамоту за завершение семилетки на одни «пятерки», а без неё в техникум принимали только по результатам вступительных экзаменов. Но разве мыслимое это дело, чтобы мальчик из маленькой татарской деревни, проучившийся семь лет на татарском языке, мог сдать вступительные экзамены на русском языке? Секретаря школы, который должен был выдать мне грамоту, долгое время не было в деревне, а когда я получил грамоту, оказалось, что приём документов в техникум закончился. Впрочем, я всего этого ещё не знал и, прихватив свидетельство о семилетнем образовании, впервые в жизни отправился в Казань.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: