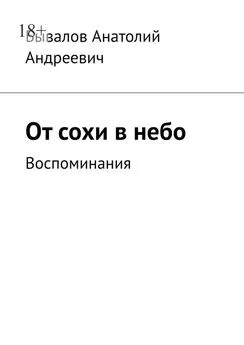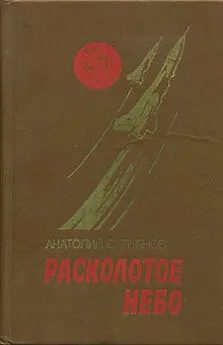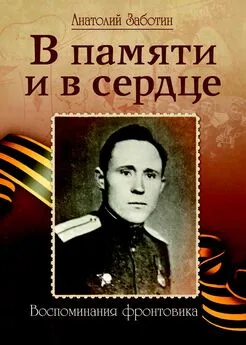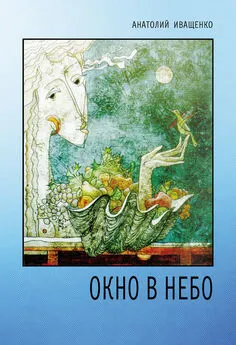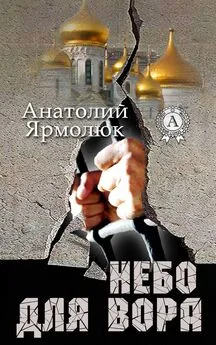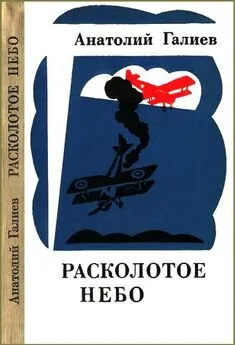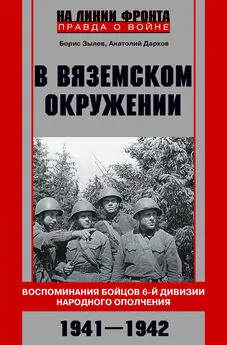Анатолий Бывалов - От сохи в небо. Воспоминания
- Название:От сохи в небо. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005563934
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Бывалов - От сохи в небо. Воспоминания краткое содержание
От сохи в небо. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В нашей местности были все русские, и не было межнациональных расколов. Но территориальные притязания были с детства. Нам запрещали ходить по ихней (деревни Лисицино) земле в школу (где хотите, там и ходите). То выделяли нам дорожку или тропинку. Приходилось вмешиваться взрослым. Между нашей деревней и деревней Романцево была возвышенность, сплошь усеянная земляникой. На этой пограничной возвышенности часто возникала борьба, стычки за право собирать ягоды. У взрослых такие распри перерастали в столкновения целых народов (Литва – СССР, Абхазия – Грузия, Азербайджан – Армения).
Когда мы оказались в колхозе, то нам сильно перестраиваться не пришлось, потому что отец был председателем колхоза и мы видели его старания, видели результаты труда, мы шли за отцом, и дети и мама. Многое в колхозной жизни нравилось, особенно с появлением техники. В 1929 году по нашей деревне впервые проехал легковой автомобиль. Сколько же было радости у детей! Мы долго бежали вслед за машиной. А ведь кто—то в ней ехал и знал, что впервые здесь проходит машина. Знал и гордился. И мы гордились, что и по нашей улице проехал автомобиль. В это же время в деревне провели радио. Репродуктор прикрепили на столбе, посреди деревни. Все собрались от мала до велика слушать чудо—ящик. Для нашей глухой местности это был праздник. Всякая новизна делала жизнь интересной. Появились веялки, сеялки, молотилки, внедряли все медленно, на глазах у всех. Все это было интересно. Сейчас приходится удивляться, что на глазах у одного поколения произошли такие огромные изменения в развитии техники. После трехлетнего руководства колхозом отец был направлен в г. Череповец на учебу в совпартшколу. Он был активным строителем коммунизма, хотя особенно не разбирал, что это такое. Может быть, и правильно, потому что до сих пор даже ученые не могут объяснить суть коммунизма, считая это утопией, категорически отвергают его. А отец тогда понимал, что надо добиваться, чтобы люди жили в дружбе, приблизительно в материальном равенстве, хорошо бы трудились все. И ведет нас к этому партия. Эта папина идейность понятна. Он прожил трудные детство и молодость, и он готов был бороться за лучшее будущее. Из воспоминаний отца: «Председателем колхоза я работал до 15.09.33 г. По предложению председателя сельсовета т. Смирнова С. К. общее собрание колхозников освободило меня от обязанностей председателя колхоза, и я сразу был избран секретарем Сельцевского сельсовета, а в октябре 1934 г. был направлен на годичные курсы в Череповецкую совпартшколу. А семья – жена и дети – так и продолжали жить в деревне Ястребцево, оставаясь колхозниками. В августе 1935 г. Устюженский райисполком направляет меня работать председателем Островского сельсовета, где я и работал по январь 1938 г. В 1936 г. семья переехала по месту моей работы в деревню Щербинино. По моему ходатайству меня перевели в деревню Хрипилево директором маслосырзавода. Но скоро, в 1938 г., РКВКП (б) направил меня директором конторы „Заготлен“. В партию коммунистов был зачислен в 1932 г. сочувствующим, в 1936 г. был принят кандидатом в члены ВКП (б), а в 1939 г. парторганизация райпотребсоюза приняла меня в члены ВКП (б). С 4.05.1942 г. по 15.01.1944 г. я работал председателем Устюженского райпотребсоюза».
Когда в 1934 году отец уехал учиться в Череповец, мы – пятеро детей – остались на попечении матери, почувствовали, какая ответственность легла на нее за выживание. Мы перешли на самоуправление и самофинансирование под руководством мамы. Каждый из нас вносил свою лепту в общий котел, кто как мог. И семья стала еще дружнее. Я ходил учиться в Никифоровскую неполную среднюю школу, за мной пошел туда и второй брат Николай, который через много лет стал директором этой школы. Все мы учились, а летом работали в колхозе. Ждали от отца писем и подарков. В школе я учился хорошо, научился играть в шахматы, полюбил их. Эта любовь сопровождала меня всю жизнь. Появилась первая любовь к девочке—однокласснице Светлане Мигер. Это доставляло мне большие волнения. Я писал ей письма, подбирал у поэтов Кольцова, Фета, Майкова любовные стихи, чтоб совпадали с настроением моей души. Делал это тайно. Мама заметила и стала узнавать у меня, но я не открылся перед ней. Светлана ко мне относилась по—детски и хорошо. Невысокая, темноволосая, улыбчивая, она создала мне образ любви на будущее, вплоть до моей жены.
В 1936 году я поступил учиться в педучилище в г. Устюжне в 20 км от нашей деревни. Не потому, что я хотел быть учителем, а такие были интересы семьи, нужно было облегчить её материальное положение. Я уже был довольно активным комсомольцем, общительным и влился в коллектив педучилища как—то естественно. Через полгода на общем собрании комсомольцы меня избирают секретарём комитета комсомола педучилища. Неловко было быть вожаком молодёжи, будучи на год – два моложе ведомых, но постепенно всё стало на свои места. Я был активен, но не заносчив.
Организовали с преподавателями разные кружки. Вот, например, струнный. Руководил им преподаватель Василий Павлович Хорев. Очень жизнерадостный человек с крупным улыбающимся лицом, чёрной шевелюрой. Для них, сельских знатоков музыки, он был кумиром. И как из нас сделать что—то стоящее в оркестре, когда играли мы на простых инструментах: кто на балалайке, мандолине и кое—кто на скрипке. И ведь он научил, заставил инструменты согласованно звучать. Когда мы понимали, что что—то получается, мы ещё больше старались. Начинали «Во саду ли, в огороде», а потом играли «Дивлюсь я на небо». Дети рвались к новизне. Он же организовал хор, сначала на два, потом на три, четыре голоса, и когда мы угадывали нюансы многоголосья, мы стремились более чётко пропеть свою партию. А когда на вечерах встречали наши выступления аплодисментами, нам хотелось ещё больше работать. Вступили в контакт с местным драмтеатром. Артисты Беляева, Сахаров, Кукушкин и другие нам казались великими, когда видели их в настоящем театре. А тут они стали с нами заниматься, готовить пьесы. И вот «Бедность не порок» на сцене. Почти все одногодки играли роли любого возраста, и получалось забавно. Павлик Суслов – Любим Торцев. Как усиленно с ним тренировали фразу: «Любим Торцев – пьяница, а лучше вас.» Убедил он нас или нет? Казалось, что от характера роли зависит и твой характер. Красивые умные парни Вася Герасимов, Коля Беляков – все они погибли в войну. Разве думали о таком конце, когда стремились к знаниям и творчеству, раскрытию своей индивидуальности?
Я увлёкся поэзией, особенно Маяковским. К нам на второй год обучения прибыли молодые учителя Берестовы Алексей Иванович и Валентина Константиновна. Их молодостью и знаниями мы были заворожены.
Они преподавали литературу и русский язык, иногда заменяя друг друга. Валентина Константиновна взяла надо мной шефство – готовить «Необычное приключение» Маяковского. И я выступал с этим много раз и потом, в других школах, и потом, в армии, в войну и после неё и везде имел успех.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: