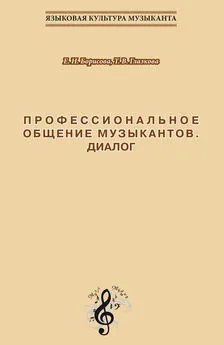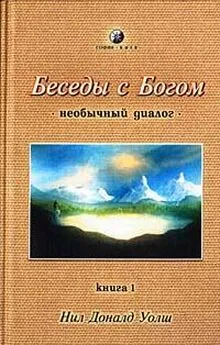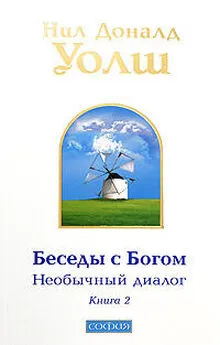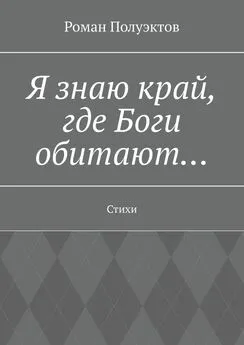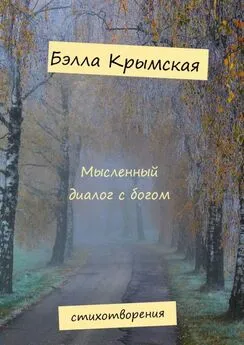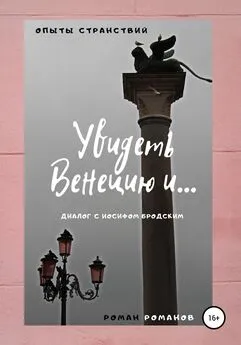Роман Насонов - Музыка: диалог с Богом. От архаики до электроники
- Название:Музыка: диалог с Богом. От архаики до электроники
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907307-24-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Насонов - Музыка: диалог с Богом. От архаики до электроники краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Музыка: диалог с Богом. От архаики до электроники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Каждый из инструментов, подражая определенным музыкальным способностям человека, реализует их на таком уровне, который недоступен нам – в силу физических ограничений [3] В данном отношении музыкальные инструменты не отличаются принципиально от хозяйственных: одно дело копать землю лопатой, а другое – ладонями рук.
. Скрипка, например, поет так, как человек петь не в состоянии, – она превышает потенциал его голоса и по диапазону, и по широте кантилены [4] Кантиленой (лат. cantilena – «пение») называют плавные мелодии, исполняемые на длительном дыхании (реальном, у вокалистов, или воображаемом, при игре на инструментах).
, и по тонкости нюансировки. Интонируя голосом, искусный певец создает тонкие мелодические узоры, так называемые мелизмы, – но исполнитель во время игры на музыкальном инструменте начинает невольно анализировать эту мелизматику и те сложные психофизиологические и эмоциональные процессы, которые за ней стоят.
Возьмем, казалось бы, самое простое и элементарное в музыке – знакомую всем со школьной скамьи гамму: «Семь всего лишь нот на свете: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ты запомни ноты эти и в тетрадку занеси». Сегодня эти ноты мыслятся нами как данность. Однако в древности человек гаммы не знал. У племен, сохранивших архаическое пение, высота звука не дифференцирована: голос просто скользит по звуковысотному пространству, не фиксируя отдельные высоты-тоны. Поэтому для древних греков было так важно обнаружить и сформулировать различие между музыкальным и речевым мелосами (подобные вещи очень содержательно излагает, например, Аристоксен Тарентский в трактате «Элементы гармоники», IV век до н. э.). С осознания и теоретического описания различных видов звукоряда в музыке начинается цивилизация.
Фиксация тонов – это довольно сложный психический процесс. Если анализировать звуки, пропетые голосом, с помощью компьютера, выясняется, что никаких тонов нет, а есть «зоны». Когда певец, интонирующий очень чисто, поет, например, звук «до» – на самом деле это не стабильный тон, а сложная, изменчивая траектория. Поэтому осознание «простейших» семи нот как фундаментальных элементов музыки – это результат долгого и сложного пути, пройденного человечеством за несколько тысячелетий. Что уж говорить обо всем остальном…
Музыка в цифрах и графике
Само понятие музыки в средневековой Европе относилось не столько к практике, сколько к теории – к трактатам, в которых структура музыкальных ладов и разнообразие интервалов обосновывались математически. Стройность, присущая различным сочетаниям музыкальных звуков, напрямую соотносилась при этом с представлением о мировой гармонии, унаследованным от античности, – так, звучание наиболее слитных и простых в математическом выражении консонансов (октав, квинт, кварт) напоминало о совершенстве Божественного творения.
Вторжение разума в музыкальную материю случилось давно: практически в любой высокоразвитой культуре древности теоретическая модель музыкального строя служит эталоном структуры космоса. Отдельные звуки гаммы и музыкальные интервалы наделяются символическими значениями, связывающими музыку с мироустройством, – их уподобляют планетам, стихиям, первоэлементам.
Во времена поздней античности были предприняты попытки создать особую форму музыкального письма – при помощи букв древнегреческого и финикийского алфавитов [5] Благодаря подобным опытам сегодня имеется возможность реконструировать некоторые обрывки нотированных древнегреческих мелодий. Но составить хоть сколько-нибудь полное представление о том, как звучала античная музыка, по этим маленьким фрагментам нельзя.
. В каролингскую эпоху, начиная с IX века, можно видеть, как над словами, пропеваемыми во время богослужения, появляются невмы – значки, которые образуют сложную систему музыкальной графики. Так зарождается нотный текст.
Изобретение нотации делает музицирование более удобным, но вместе с тем привносит в него элемент условности. Мы рисуем линейки, располагаем «нотки» (notulae) на воображаемой лесенке – но голос-то текучий, а лесенка предполагает шаги. Никто не хотел вторгаться в саму природу музыки, но это невольно происходит – по самым разным причинам: как показать певцам направление и точный интервал движения голоса? как композитору сохранить музыку для потомков, не полагаясь на изменчивую человеческую память? В ответ на подобные запросы музыкальной практики появлялись разные способы визуализировать звуки – от Гвидоновой руки [6] Гвидонова рука – наглядное пособие в музыкальной педагогике Средних веков и Возрождения. Название связывают с именем монаха Гвидо Аретинского, который обучал мальчиков-певчих церковным мелодиям, показывая им ступени звукоряда на суставах пальцев.
до графической партитуры. Так или иначе, с появлением нотного текста открывается возможность осуществлять над ним разнообразные интеллектуальные процедуры, вплоть до превращения записанной музыки в систему экстрамузыкальных символов.
К XX веку символизация нотной записи дошла до той стадии, когда музыкальный текст уже может быть превращен в чистую графику, которую переводят в звуки согласно специально разработанному коду (более того, у композитора есть возможность «передоверить» выбор звукового решения исполнителю, как это происходит в «индетерминированной музыке» американца Джона Кейджа).
Но и традиционная нотация на пяти линейках допускает такое прочтение авторского замысла, о котором невозможно догадаться на основе одного лишь звучания. Например, Лирическая сюита (1926) Альбана Берга, как выяснилось спустя много лет после смерти композитора, представляет собой историю его горячей и вместе с тем осознанно мифологизируемой любви к Ханне Фукс – зашифрованную в латинских буквах (которыми в музыкальной теории принято обозначать каждую из нот [7] Так, ля обозначается буквой a , си-бемоль – b , до – c , ре – d и т. д.
) и числах.
Какой композитор гениален?
Гениальность в музыке не поддается определению. Тем не менее уровень мастерства определить можно – для этого существуют объективные основания. И самое первое, пожалуй, – это масштаб духовных проблем. Умение ставить предельные вопросы – а не просто жонглировать выхолощенными понятиями «жизнь», «смерть», «любовь», как это делает массовая культура, предлагая эрзацы ответов. Ставя свои вопросы, высокое искусство осознает, что исчерпывающих ответов на них нет.
Второе – способность сложно и оригинально структурировать течение музыкального времени, наполняя его уникальной интонацией. Идейное содержание само по себе не означает в музыке ничего, если оно не слито с музыкальной тканью и не воплощается по музыкальным законам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: