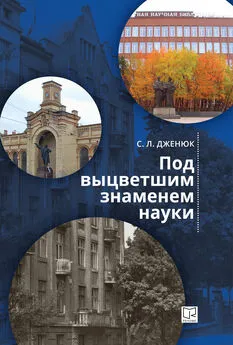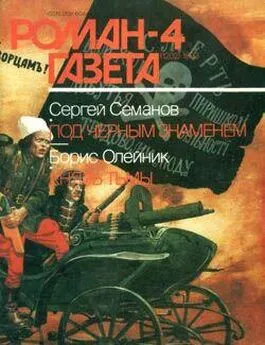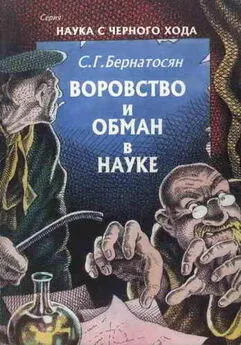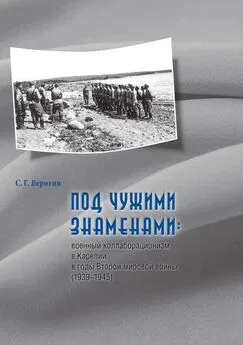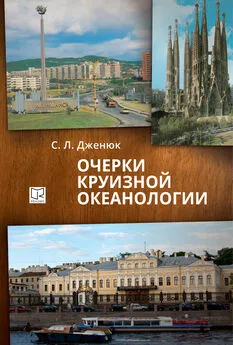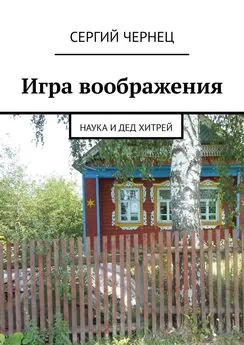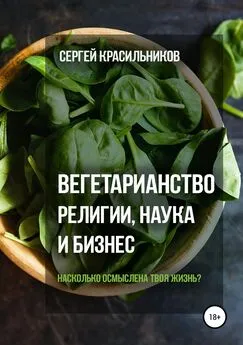Сергей Дженюк - Под выцветшим знаменем науки
- Название:Под выцветшим знаменем науки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91918-968-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Дженюк - Под выцветшим знаменем науки краткое содержание
Под выцветшим знаменем науки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В декабре стало совсем плохо:
«Хожу каким-то рамоли в сопровождении, подымаюсь на четыре ступени и отдыхаю. Был в ГОИ, в Академии, как-то руки опускаются. Ни творчества, ни активности. Люди – куклы, и все – картонные декорации. Город кажется разваливающимся» (02.12.1950).
К этому времени здоровье Вавилова стало предметом государственной опеки. Постановлением Политбюро ему предоставили месячный отпуск для лечения в санатории «Барвиха». Там он был с 12 декабря по 11 января 1951 года. Месяц прошел в болезненном состоянии, но все-таки в чем-то полноценно: с продолжительными прогулками по зимнему лесу, работой над обобщением закона Стокса, выездом в Москву на Новый год. После Барвихи была еще рабочая неделя в Москве. Снова болезненное состояние, но, помимо академической текучки, Вавилов еще размышляет над своей статьей о законе Стокса для «Докладов АН» – не допущена ли ошибка в выкладках.
Последняя запись от 21 января сделана, как это обычно и бывало, в воскресенье на даче в Мозжинке, и четырьмя днями позже Вавилов скончался. Судя по мемуарам академика П. Я. Кочиной (которая с Вавиловым не работала, но, очевидно, слышала в пересказе), в свой предпоследний день Вавилов, вопреки рекомендациям врача, допоздна работал на своем месте в здании Президиума АН. Подробности нас вроде бы не должны интересовать, но одно обстоятельство заслуживает внимания. Параллельно с дневником Вавилов вел «Научные записи», помещая их в тех же тетрадях. В томе «Дневников» в виде приложения даны записи за ноябрь 1950-го – январь 1951-го, без справочного аппарата. Это единственная часть тома, которая была опубликована раньше, причем очень давно («Химия и жизнь», 1975, № 1). Можно посочувствовать читателям тех лет, и себе в том числе, что им была доступна только такая маленькая часть вавиловского архива (конечно, по-своему тоже важная). Последние два документированных дня удивляют как раз несовпадением общечеловеческой и профессиональной линий жизни.
В «Дневнике»:
«Музыка Генделя. Ели в снегу. Снег. Луна в облаках. Как хорошо бы сразу незаметно умереть и улечься вот здесь, в овраге под елями навсегда, без сознания.
„Земля еси и в Землю отыдеши“. Жизнь кажется страшной тяжестью» (21.01.1951).
Но на следующий день, не уезжая из Мозжинки, он продолжил свою работу над обобщением закона Стокса, изложил свои выводы в четырех тезисах, и последние строки «Научных заметок» таковы:
«IV. Переход из стоксовой области в антистоксову должен быть непрерывным, т. е. в начале антистоксовой области значение вероятности должно мало отличаться от ее значения в прилегающей стоксовой области.
Из всего этого обобщенный закон Стокса вытекает с необходимостью» (22.01.1951).
Заключительные мысли научных записок могли бы оказаться и более важными с точки зрения рядового читателя, не понимающего в законе Стокса. В этих тетрадях есть и план написания будущих книг, и размышления о фундаментальных основах познания Вселенной (вряд ли газета «Правда» и журнал «Успехи физических наук» опубликовали бы их с той же готовностью, что и статью «Ленин и современная физика»). Но такие размышления присутствуют в дневниках все 15 лет, и нет никакой символики в том, что Вавилов возвращался к ним в свои последние дни.
Это была событийная сторона жизни, а теперь пора перейти к личности автора и его картине мира, отношению к людям, событиям, идеям. «Простые люди обсуждают других людей, более развитые говорят о событиях, интеллигентные – об идеях», – это я услышал на первом курсе от преподавательницы английского языка и думаю, что этот афоризм верен на все времена. Графически это можно представить пирамидой, в основании которой – биомасса примитивных мыслей, а на вершине – несколько одиноких интеллектуалов, думающих о мировых проблемах. При этом понятно, что без основания пирамида не устоит и никакие идеи не вырабатываются без подпитки с двух низших уровней.
Здесь много раз придется отмечать то, чего Вавилов не знал или не хотел знать, разные внешние и внутренние ограничения и самоограничения. Думаю, что это его не дискредитирует. Он и сам несколько раз возвращается к тому, что современный средний студент знает о мире больше, чем Галилей и Ньютон. Когда-нибудь и нас будут читать так же снисходительно (если будет кому читать вообще).
Начнем с вершины пирамиды, оставив на потом более интересные записи о разных людях, особенно о собратьях-ученых. Если исходить из непримиримости научного и религиозного мировоззрений (хотя в XXI веке такой подход не очень приветствуется), то Вавилов, безусловно, стоял на научных позициях. Нигде не прослеживается его интерес к религии, православию, не говоря уже о других конфессиях. Едва ли не единственное исключение – поездка всей семьей в Троице-Сергиеву лавру в последний год жизни, скорее экскурсия, чем паломничество. Но Вавилов отметил и то, что «бывал здесь с матушкой с пяти лет», и «русские культурные геологические слои», и «искусственно воскрешенных монахов», и впечатление от лика преподобного XV века – «умное доброе старое русское лицо» (01.08.1950).
Материализм Вавилова был неоднозначным, и он постоянно возвращается к тому, что мы изучали как основной вопрос философии – о соотношении материи и сознания. Уже в первой записи возобновленного дневника он формулирует исходные положения:
«Бесконечны „системы отсчета“ сознания: точка зрения биологического организма, борющегося за самосохранение, за потомство; социологического организма, класс, нация, государство; научное сознание, где виден весь мир в своей подвижности, бесцельности, игре. Самое простое – одна крепкая система координат, самое ужасное – постоянные переходы, блуждания. „Интеллигент“, существо с блуждающей системой отсчета. Приспособить все остальные системы на службу одной? Можно ли это? И какая же система начнет претендовать на звание абсолютной. Но релятивизм сознания – одновременно его грядущая гибель» (26.07.1936).
И дальше о развитии сознания:
«Надо оглянуться на историю. „Доисторический человек“, питавшийся, плодившийся, с примитивным сознанием, с одной биологической системой координат. И затем начинается история, создание общества, перестройка природы (жилища)… Следующий великий этап – создание большой техники (примерно XVI–XVII вв.). Система координат общее и шире. Дальше? Универсальная позиция физика-философа. Не конец ли это, не самоуничтожение ли это сознания? До этого еще очень далеко» (29.07.1936).
В следующие годы Вавилов еще не раз возвращается к феномену сознания и его эволюции, приходя и к такой мысли:
«Похоже на правду, что широкое сознание такая же неудача кухни природы, как ихтиозавры и птеродактили, и оно, по-видимому, рано или поздно исчезнет. Но все же удивительно, что такая гипертрофия мозга могла произойти и, следовательно, может существовать несравнимо большая гипертрофия – сознание, обнимающее несравнимо больше и несравнимо иначе» (10.02.1941).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: