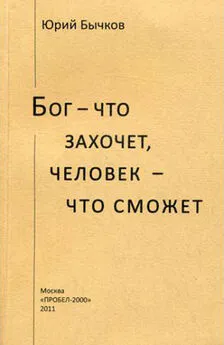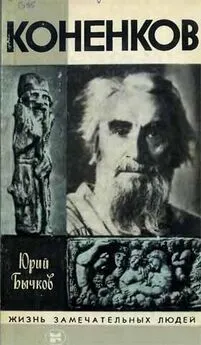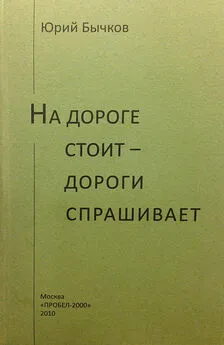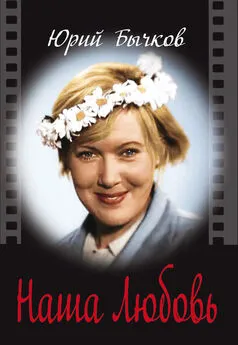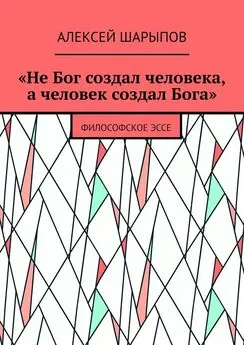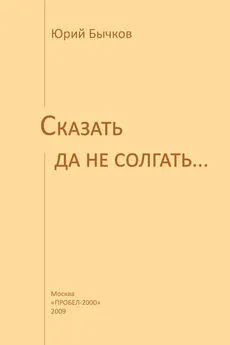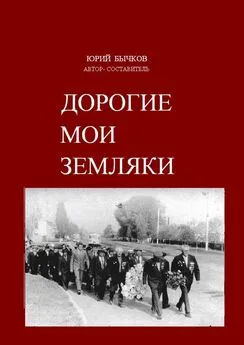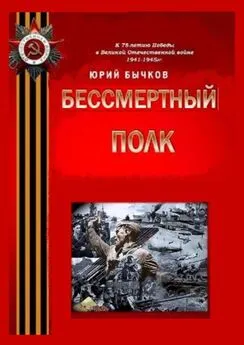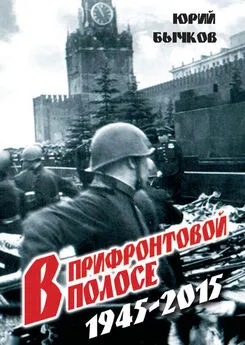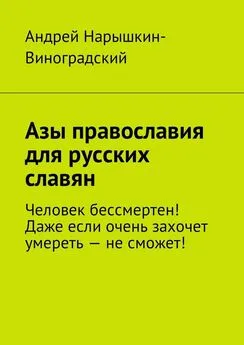Юрий Бычков - Бог – что захочет, человек – что сможет
- Название:Бог – что захочет, человек – что сможет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98604-260-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Бычков - Бог – что захочет, человек – что сможет краткое содержание
В книге “Бог – что захочет, человек – что сможет” заслуживают особого внимания философские размышления, историко-публицистические экскурсы автора в сущностные глубины таких поистине близких божественному промыслу личностей, чье предназначение формировать, окормлять духовно великую нацию. Речь идет о святом благоверном князе Александре Невском – отце нации – и о том, про кого справедливо сказано Владимиром Одоевским: “Пушкин – наше все!”
Бог – что захочет, человек – что сможет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда выбрался к Валентину Михайловичу в мастерскую, наговорились всласть. Никто не вмешивался в нашу беседу, не задавал ненужных вопросов, не перебивал. Меня приятно волновали близостью сюжетов, положений, душевностью русской, славной параллельностью его знакомство и дружба с Михаилом Михайловичем Пришвиным и мои добрые, почти семейные отношения с Сергеем Тимофеевичем Конёнковым. Рассказал ему о своём чисто журналистском выходе на знаменитого скульптора и поразился жизненности, поэтичности того, как они, Михал Михалыч и Валентин, нашли друг друга.
– Майским утром 1950 года… Боже, как давно это было! – умилился быстротекущему времени Валентин. – Так вот… Я в лесу под Звенигородом писал цветущую черёмуху. На эту лесную поляну приехал из деревни Сальково на инвалидной моторной коляске-«драндулете» вместе с преданнейшим другом моим дворнягой Джеком. Джек до страсти любил кататься и всегда ездил со мной на этюды, гордо сидя в драндулете, нагруженном холстами, этюдником, зонтом и прочим. Ну, там кисти, краски, чай в термосе, перекус для меня и Джека.
– Представляю – картина, достойная кисти Айвазовского!
– Джек в драндулете сидел не для декорации. Он был обучен из любого места по команде возвращаться с запиской в ошейнике в деревню – это была наша связь. В случае поломки драндулета или со здоровьем неполадки какие.
– Случалось вкладывать записку в ошейник?
– Случалось Джеку за его долгую службу меня выручать и не раз. А тогда… Устроился, приладился к этюднику, вдыхаю аромат черёмухи, пишу… Невдалеке за деревьями послышался рокот приближающегося автомобиля. Хлопнула дверь и на поляну вышел грузный пожилой человек в очках и широкой серой блузе. Остановился. Внимательно оглядел лежащую собаку, меня, начатый этюд на мольберте. Я продолжал делать вид, что пишу, хотя, должен признаться, вид стоящего за спиной зрителя тогда ещё действовал на меня парализующе: глубоко страдал, всё во мне сжималось и каменело, я стыдился всего в себе – и неходящих ног, и всей своей внешности, несовершенства моей живописи и даже того, что сижу на инвалидном транспорте. Боковым зрением видел, что старик не собирается уходить, а, наоборот, палку свою превратил в подобие сиденья, воткнув в землю, присел на неё, широко расставив ноги для упора.
– Я не помешаю тут вам?
– Нисколько, – сказал я с кислым выражением на лице: уже помешал, да ещё как.
Дальше – больше. Незнакомец вытащил из кармана небольшой блокнот и стал что-то рисовать или, может быть, писать в нём, и тогда можно было поподробней рассмотреть его. На нём берет, сочинённый из обычной кепки с отрезанным козырьком. Из под берета плотными кольцами выбивались пряди серебряных волос, а лицо – необычное сочетание черт утонченной интеллигентности с чем-то очень народным, даже древним, идущим от скифского, что ли, вождя или от сказочного волшебника Берендея, фольклорное, русское, родное.
Незнакомец убрал блокнот, встал со стула-палки и просто сказал:
– Здравствуйте, давайте знакомиться. Я – Пришвин. Живу тут рядом, в Дунине. Что-то не пойму, на чём вы ездите?! Никогда не видел таких мотоциклеток.
Объяснил, что это выпущенный для инвалидов Отечественной войны трёхколёсный мотоцикл, а мне он достался по случаю: увидел в хозяйственном магазине, куда он непонятно каким образом попал. Стал нахваливать Пришвину драндулет. Дескать, он прост по конструкции, лёгкий – любой деревенский мальчишка без труда может вытолкнуть его на плохой дороге. Пришвин загорелся, как мы теперь говорим, завёлся с полоборота. Ему захотелось заиметь такой же драндулет, чтобы, без опасения застрять, выезжать в лес. Он явно не мог себе позволить упустить такого знатока вездеходных машин, как я.
– Вот что, – энергично воззвал он ко мне, – давайте поближе познакомимся. Приезжайте ко мне в Дунино незамедлительно.
– И наш голубь полетел следующим утром? – вспомнив, как бодро-весело сам-то отозвался на желанное, ожидаемое приглашение Конёнкова прийти к нему в дом на Тверском бульваре.
– Нет, не поехал я в Дунино ни следующим утром, ни в последующие дни. Посчитал, что не готов удостоиться такой чести. Понимал, не подготовлен к этой встрече – возможно ли серьёзное общение с писателем, живым классиком, без знания его книг?
– Что? Вы до встречи в лесу под Звенигородом не читали Пришвина, а только слышали от других, что он классик? – задал я недоуменный, наивный до глупости вопрос великомудрому Никольскому.
– Как так не читал? Не могло такого быть.
Он задумался, соображая, с какого конца распутывать нить моего незнания, непонимания сути дела.
– Читал я, конечно же, Пришвина и сознавал, что среди многих других литераторов Пришвин правдив в своих книгах; это было видно сразу.
– Просветите, Валентин Михайлович, о чём речь?
– О раздвоении личностей в стране победившего социализма. Одно люди говорят, публично, а по-другому о том же предмете думают. Немало по сей день простодушных, доверчивых. Писатели многие – что флюгер. Пришвин же всегда правдив. Я с гордостью за него повторяю это. Что почём, он различал. Как ему удалось избежать раздвоения и разлада в душе и в чём он нашёл примирение – это была тайна, открыв её, я надеялся избавиться от состояния душевного смятения.
Валентин, видя, что мне не до конца понятна ситуация с душевным раздвоением, заговорил о том, откуда в нём это проросло и как дружба, разговоры с Пришвиным помогли ему.
– Встреча с ним обозначила всю мою дальнейшую судьбу и в те, ранние, пятидесятые, годы сыграла решающую роль. Тогда я учился на художественном факультете Полиграфического института и, будучи членом Московского товарищества художников, зарабатывал на жизнь, сдавая пейзажи и натюрморты на малый совет. Я был «кормильцем» в семье, состоящей из старенькой мамы и учащейся сестры. После перенесённой в детстве болезни позвоночника я утратил способность ходить, и в школе никогда не учился, и меня почти не коснулась навязчивая пропаганда казённого розового оптимизма. Я рано стал чувствовать лакировочную лживость газетных информации и не питал нежности к «отцу народов», поняв его деспотическую сущность. Я себя в общественной среде чувствовал белой вороной, и это меня смущало и беспокоило. Встреча с Пришвиным ошеломила. Было лестно, радостно получить от него приглашение, но я понимал, что не подготовлен к такой встрече. Неделю метался между желанием немедля ехать в Дунино и страхом опозориться. Постепенно вызрело максималистское решение – пока не прочитаю всё, им написанное, не показываться. Но однажды возле деревенского дома в Салькове, где мы жили тем летом, остановился пришвинский «москвичонок» и жена Михаила Михайловича, Валерия Дмитриевна, войдя на террасу, сказала:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: