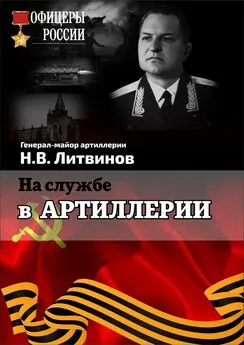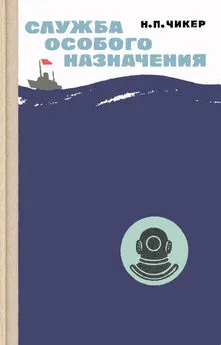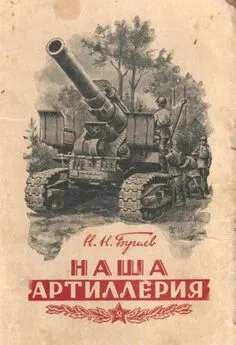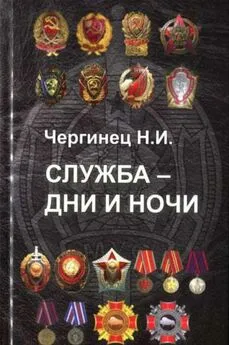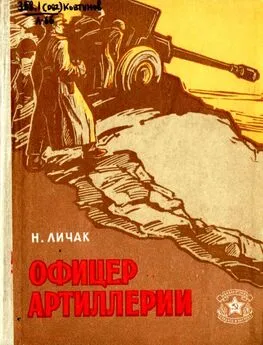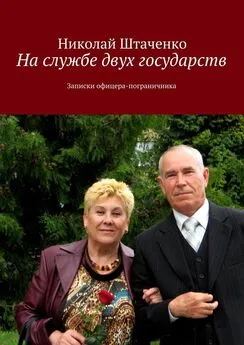Николай Литвинов - На службе в артиллерии
- Название:На службе в артиллерии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-6042238-7-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Литвинов - На службе в артиллерии краткое содержание
Воспоминания генерал-майора артиллерии Н.В. Литвинова являются примером жизни и деятельности наших военачальников, вышедших из народных масс, воспитанных советской действительностью, внесших значительный вклад в победу над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны, и крепивших оборону страны в мирное время.
Мемуары подготовлены к изданию кандидатом военных наук, доцентом, полковником в отставке Рипенко Юрием Борисовичем.
На службе в артиллерии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я сидел на возу, пока можно было терпеть, когда же стало невмоготу, через пламя спрыгнул на землю. Брат, обрезав гужи хомута, выпряг лошадь. У нее обгорел круп. Чувствуя свою вину и растерявшись, Михаил принялся снимать колесо, при этом обжег себе щеку, но колесо снял. Отметину носил всю жизнь. Телега с копной сгорела.
Придя домой, Михаил упал отцу в ноги, опасаясь смертного боя. Но отец, вопреки ожиданиям, а может быть потому что увидел обгоревшее лицо сына, не стал его бить, хотя тяжело переживал, что телеги уже нет и лошадь надолго вышла из строя.
Василий пошел в мать, небольшого роста, плотный, кряжистый, имел слегка дугообразные ноги, в молодости был физически сильным человеком (в драках всегда выходил победителем). Всю жизнь он прожил в основном в Сараях и только несколько лет на Дальнем востоке (на о. Сахалин), куда он уезжал до войны к Михаилу. Откуда его во время войны призвали в армию, участвовал в разгроме Японии в 1945 году. После войны вернулся в родные места. Основная его специальность – кузнец. Практически вся жизнь его прошла у горна. В эти дни ему под семьдесят. Пенсионер, но еще здоров, работает летом в своем саду и в огороде, а зимой на производстве. Двое сыновей: Александр и Евгений, выросли, женились, живут самостоятельной жизнью. Имеют детей и внуков. Так что Василий уже прадед. В детстве Василий учился мало, всего полтора раза, да и те с прохладцей. Мать рассказывала:
– Соберу его в школу, а он вместо школы уходил на речку кататься на лед.
Ребята идут из школы и он с ними.
Так продолжалось до тех пор, пока отец сказал:
– Хватит, пусть идет работать.
В более поздние годы, Василий нередко упрекал мать:
– Почему ты тогда не заставила меня учиться? Взяла бы кнут, да отстегала бы.
Раскаяние… Но слишком позднее.
Мария, стройная, темноволосая, симпатичная и трудолюбивая. Она была любимицей в семье. В 1930 году вышла замуж и как-то у нее случилось воспаление аппендицита, а она была беременной. Вместо того, чтобы обратиться к врачам, мать вместе с знахарками в течение трех дней держали ее на печи и «ставили банки». В результате перитонит и в свои 20 лет Мария умерла.
Любовь характером и внешностью в отца, только роста среднего. С гонором и очень упрямым характером. От испуга в детстве заикается и поэтому в разговоре испытывает определенные стеснения и затруднения. Окончила семь классов, но в дальнейшем самообразованием не занималась, так и осталась с отсталыми взглядами на жизнь и с претензией на свою значимость. Всю жизнь прожила она за материнской спиной, забот особых не знала. Труд и чистоплотность не любила.
В детстве за свой строптивый характер и упрямство наказывалась больше, чем другие дети. В семье ее не очень жаловали. Так что имя Любовь для нее оказывается скорее нарицательным. После смерти матери, она, будучи 45-летней, вышла замуж за вдовца, и живет с ним до сих пор.
Алексей – младший брат, последыш. Высокий, плотный блондин, даже пшеничный. Добродушен и общителен. До войны окончил восемь классов. В 1942 году окончил ускоренный курс (шесть месяцев) артиллерийского училища, в воинском звании лейтенанта убыл на Ленинградский фронт. На фронте он возил боеприпасы из Ленинграда на передовую. В 1943 году в 20 км от фронта прилетел один единственный немецкий снаряд и разорвался рядом с машиной, у которой стоял Алексей, поставив ногу на подножку крыла. Осколок снаряда в висок оборвал 18-летнюю жизнь.
Хозяйство отца в двадцатых годах считалось середняцким. Изба – старенький семерик (7х7 аршин) с сенцами, лошадь, корова и пяток овец. К избе с сенцами вплотную был пристроен двор для скота, а за двором в 70–80 метрах рига, в которой хранилось все убранное с поля: рожь, овес, просо, сено. Была еще глиняная мазанка, в ней хранилось зерно, а летом там спали в прохладе.
Все постройки, как и у других крестьян, были покрыты соломой.
Крестьянская изба… Одну четверть ее занимала русская печь. На печи спали, в ней пекли хлеб, варили пищу на семью. Иногда в ней отец парился. В другой четверти избы – в углу – кухонная утварь с чугунными кадками и рогачами. В третьей четверти избы стоял грубо сбитый стол. Вдоль стены стояли лавки. Казенка – ящик, прикрепленный к печке для отдыха. Полати – тоже ящик, но плоский, прикрепленный под потолком, где обычно сидят дети. Задник – три широкие доски, заменяющие кровать, располагался в последней четверти избы.
Вот и все оборудование избы, вся ее мебель.
Я и двое меньших спали на полатях, отец и мать – на печке, остальные – на заднике, казенке, лавках.
Постели… Их по существу не было. На всю семью была одна перина и две подушки (приданное матери), а мы – молодежь спали кто на чем: под бок подстилали старые полушубки; под голову подкладывали верчушки (самотканые из хлопьев и волокон конопли); там же и одевались.
На полатях теплее, а вот на лавках и заднике холодно. Зимой, под утро, вода в кадках замерзала. Но это еще не все. С января-февраля начинали плодиться овцы, и ягнят, по мере их появления, забирали в избу. Телилась корова – теленка тоже брали в избу. Если растили маленького поросенка, он тоже был в избе. А где же еще его держать? Не было у крестьян теплых помещений для скота, такие теплушки были только у богатых.
Вся эта «молодежь» жила вместе с людьми, тут же и оправлялась.
Если телилась корова рано (январе-феврале), то в сильные морозы ее заводили для дойки в избу. При доении она жевала сено, принесенное со двора. Ну и, конечно, оказавшись в тепле, как ей не оправиться.
Когда в хозяйстве бывали гуси, то в марте-месяце под лавками в кошелках на яйцах сидело 4–5 гусынь. Естественно, пол был черный, мыли его только к большим религиозным праздникам, ежедневно же скоблили лопатами и выметали грязь березовыми вениками. Только весной обстановка разряжалась. Вся живность выводилась на волю, тогда и пол мылся каждую неделю.
Такие условия бытия были, как я себя помню (с 1924 года) вплоть до 1931 года. После смерти отца живность резко поубавилась, но то что еще оставалось, продолжало зимой находится с нами в избе.
Мать рассказывала, что до революции изба наша отапливалась по-черному, что значит без трубы. Дым из печи выходил не в трубу (ее не было), а в избу и далее через дверь. А зимой они сушили на печке коноплю, от которой была страшная пыль. Печь топили соломой. Дрова жгли только по большим праздникам (лес от села за 30 км), когда пеклись блины.
По вечерам в осеннюю и зимнюю пору, когда ночи длинные, мать и сестра пряли, превращая волокна конопли в нить, намотанными вначале на веретено, а затем на клубок. Прядение было основным занятием всех женщин села в ту пору.
Пряли и на посиделках во время постов, когда девушки собирались по 5–8 человек в одной избе по очереди, чтобы меньше жечь керосина, а парни сидели тут же и лузгали семечки, обмениваясь репликами и шутками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: