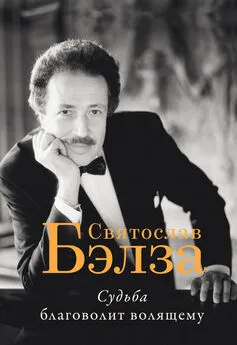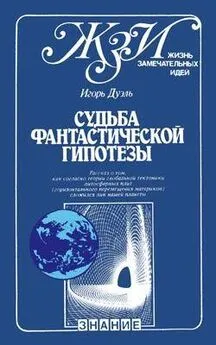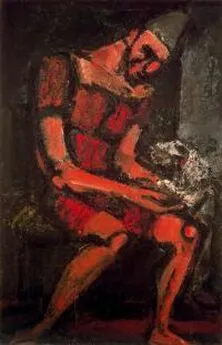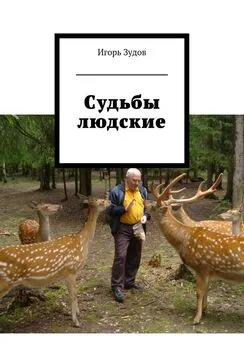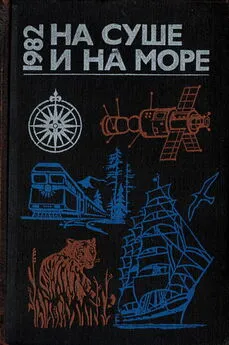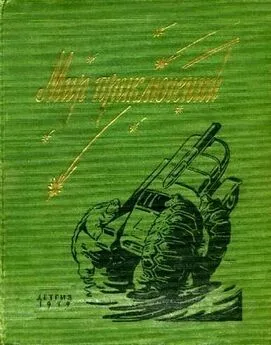Игорь Бэлза - Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза
- Название:Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00095-777-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Бэлза - Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза краткое содержание
Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По имени властвовавшей тогда королевы последние десятилетия XVI – начало XVII века в Англии принято называть елизаветинской эпохой. Человечество, однако, вносит со временем коррективы и в хронологию, для которой все чаще избираются в качестве ориентиров имена ярчайших светочей разума, а не тех или иных коронованных особ. Была дантовская эпоха в Италии и пушкинская пора в России, а ее величество Елизавета I восседала на английском троне во времена «царя драматических поэтов» – Шекспира.
Глубочайшим знатоком вот этой – шекспировской – эпохи был профессор М.М. Морозов. Он досконально изучил словарь Шекспира и английский язык XVI века со всеми бывшими в ходу идиомами, изучил быт и реалии «доброй старой Англии», что необходимо – как он показал – для полного постижения шекспировских текстов (см. его работы «Язык и стиль Шекспира», «Метафоры Шекспира как выражение характеров действующих лиц»). На страницах книг и статей М.М. Морозова не только сам Шекспир, но и его многочисленные герои предстают буквально как живые. Вслед за Пушкиным он подчеркивал необходимость восприятия образов, созданных гением Шекспира, в развитии и посвятил этому специальное исследование.
Особенно посчастливилось тем, кому удалось слушать публичные выступления или университетские лекции профессора Морозова. Тут его беспредельная эрудиция и энтузиазм оказывались помноженными на ораторское дарование и подлинный артистизм, что в совокупности производило неизгладимое впечатление на аудиторию. Он как бы брал слушателя за руку и приглашал совершить вместе с ним увлекательное путешествие в страну чудес, имя которой – Шекспир. В этой стране ему был знаком каждый уголок, и он находил удивительно точные, убедительные слова, чтобы не только сделать для других близким и понятным, но и заставить их полюбить то, во что был горячо влюблен сам.
Морозовские труды о Шекспире еще при жизни ученого получили заслуженное признание как в нашей стране, так и за рубежом. Его обстоятельная работа «Шекспир на советской сцене» была издана в 1947 году по-английски в Лондоне с предисловием Дж. Довера Уилсона. В начале этого предисловия виднейший британский шекспировед писал: «Мы все отдавали себе отчет в том, что Шекспира высоко почитают в Советском Союзе, почитают к тому же „по традиции“, как мог бы сказать Гамлет. Мы знаем также, что профессор Морозов один из ведущих, если не главный авторитет в этой области».
В своих работах М.М. Морозов не раз упоминал имя замечательного русского трагика первой половины прошлого века Павла Мочалова, с огромным успехом игравшего Гамлета, Отелло, Лира. Взыскательный Белинский в статье «„Гамлет“, драма Шекспира, Мочалов в роли Гамлета» признал, что «для гения Мочалова нет границ». А в эпитафии актер был назван вдохновенным другом Шекспира. Слова эти, думается, с полным основанием могут быть отнесены и к профессору Морозову.
Настоящим другом Шекспира, его «представителем на земле» был он в глазах своих студентов и читателей, в глазах деятелей искусства – режиссеров, актеров, переводчиков, которые прибегали к его советам и помощи, приступая к работе над творениями «великого англичанина». Часто общавшийся с Михаилом Михайловичем в молодые годы доктор филологических наук М.В. Урнов констатирует: «С естественной восторженностью писал и говорил он о достижениях выдающихся советских переводчиков, рассматривая их работу как новый этап в осмыслении Шекспира. Но восторженность, чрезвычайная отзывчивость, благожелательность Морозова не колебали его принципов и не препятствовали критике. Отмечая неудачи и промахи, он исходил из кардинальной задачи перевода и потому был строг и требователен. Вместе с тем он учитывал творческую индивидуальность переводчика, его возможности, указывал направление работы».
«Как и для других, для меня Вы живой авторитет, англовед и шекспиролог, знаток английского языка и литературы, и все то, что я Вам однажды писал: человек с огнем и талантом…» – обращался во время войны в своем послании к Морозову Борис Пастернак, трудившийся тогда над переводами «Гамлета» и «Ромео и Джульетты». Обе эти трагедии, а впоследствии также «Король Лир» и «Генрих IV» были изданы в переводе Б.Л. Пастернака с сопроводительными статьями и комментариями М.М. Морозова. Давая оценку выполненных Пастернаком переводов шекспировских пьес, ученый отмечал их значительность «прежде всего потому, что автором этих переводов является большой поэт», а также потому, что «он правильно понял самую задачу театрального перевода».
Пастернаковский перевод «Ромео и Джульетты» М.М. Морозов считал «вообще лучшим художественным переводом Шекспира на русский язык»: «Пастернак нашел живые интонации, нашел звучание речи каждого действующего лица. Перевод Пастернака порывает с тем традиционным представлением об этой пьесе как о картине пышного Ренессанса, Ренессанса в шелку и бархате, в шляпах с перьями, нарядного маскарада. Это не итальянская пьеса – это в большей степени картина в духе нидерландской школы, и в этом отношении Пастернак идет по следам Островского, переведшего „Укрощение строптивой“.
Если сравнить перевод Аполлона Григорьева с переводом Пастернака (эти переводы во многом близки), то видно, как шагнуло вперед искусство перевода. Может быть, в переводе Пастернака есть то, с чем другие художественные переводчики не согласятся. Может быть, другие переводчики выделят другие стороны шекспировской пьесы. Пастернак как-то сказал в разговоре, что в пьесе звучат два шума: звон мечей и звон кухонных тарелок (дочку выдают замуж). У Пастернака звон тарелок в доме Капулетти, пожалуй, громче звона мечей. Но это отнюдь не исключает того, что Пастернаком передана лирика, передано дыхание молодости пьесы… Это поэтический перевод. Кроме того, как заметил зоркий критик Немирович-Данченко, выбравший пастернаковского „Гамлета“ для МХАТ, у Пастернака доминирует не просто слово, а слово-действие. Сравните с подлинником перевод Пастернака, и вы увидите, насколько он умеет переводить движение и жесты».
Свою искреннюю признательность «знахарю по шекспировским делам» за поддержку и помощь в неимоверно трудной работе Борис Пастернак выразил не только в письмах, но и в шуточных стихах:
…И под руку с Морозовым —
Вергилием в аду —
Все вижу в свете розовом
И воскресенья жду
Вергилием, то есть мудрым вожатым по царству, населенному образами Шекспира, охотно становился Морозов не только для Пастернака. «В те дни, когда я работал над сонетами Шекспира, и позже, во время нашей совместной с ним работы над переводом „Виндзорских насмешниц“ для Театра Моссовета, Михаил Михайлович чуть ли не каждый день бывал у меня, – засвидетельствовал С.Я. Маршак. – В сущности, Михаил Михайлович Морозов на протяжении многих лет был неизменным помощником и советчиком всех, кто переводил, ставил или играл на советской сцене Шекспира». В этот круг входили Н. Акимов и В. Вагаршян, А. Васадзе и Ю. Завадский, Г. Козинцев и Б. Ливанов, С. Михоэлс и Н. Мордвинов, А. Остужев и А. Попов, Р. Симонов и Г. Уланова, Н. Хмелев и А. Ходжаев, А. Хорава и А. Яблочкина, В. Левик и М. Лозинский, А. Радлова и Т. Щепкина-Куперник… «Вы, как всякий русский человек, оказались человеком с большим сердцем, чутким и глубоко принципиальным. Оценка Ваша, как крупнейшего авторитета, дает мне силы продолжать работу как над Отелло, так и над другими образами Шекспира, – писал 9 мая 1944 года профессору Морозову Акакий Хорава. – Говоря искренне, стоит работать, чтобы заслужить похвалу таких авторитетов, как Немирович-Данченко, Вы, Качалов…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: