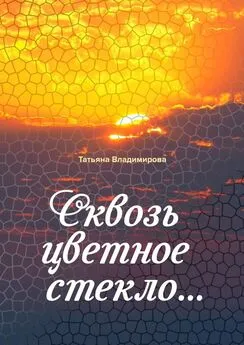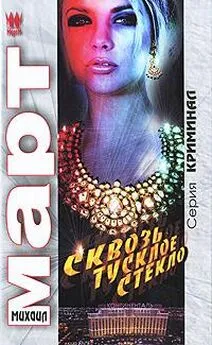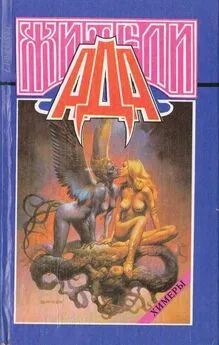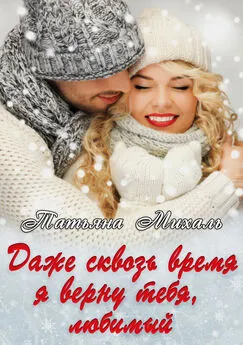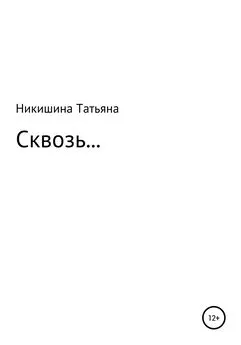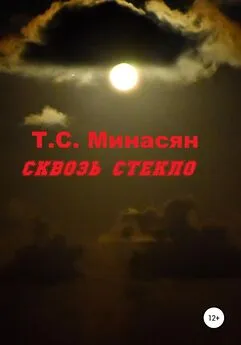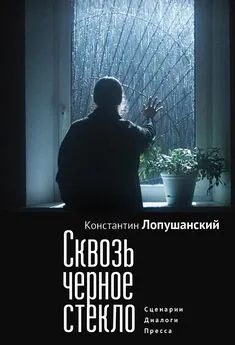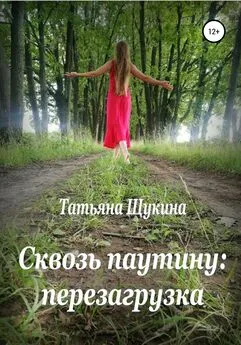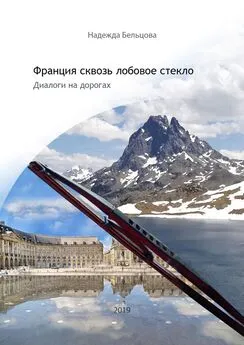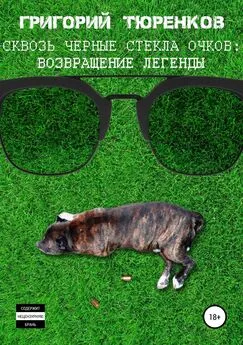Татьяна Владимирова - Сквозь цветное стекло
- Название:Сквозь цветное стекло
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449351876
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Владимирова - Сквозь цветное стекло краткое содержание
Сквозь цветное стекло - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Директор! – отвечали мне с хохотом.
С худруком мое знакомство произошло позже, хотя именно по его инициативе мы оказались в Сочи: муж был приглашен на прослушивание и по результату принят солистом-пианистом и концертмейстером. Уже в качестве редактора студии телевидения я пришла к Давиду Григорьевичу, чтобы расспросить его о формировании филармонии, творческом составе и задачах, которые он ставит, и информировать об этом важном событии наших телезрителей. Многие годы мы будем связаны творчеством, оба родоначальника станут нам близкими людьми, ведь наши биографии будут складываться с их участием. А они относились к артистам с уважением и пониманием, хотя обладали опытом далеко не однозначным, часто не созвучным: один – административный работник, заведовавший отделом пропаганды Горкома КПСС, другой – совсем не кабинетный, не привыкший к подчинению кому бы то ни было, творчески непредсказуемый композитор – народный артист Молдавской ССР. Но именно их совместными стараниями формировалась филармония, приглашались в коллектив выпускники лучших консерваторий страны, благодаря им в город на гастроли приезжали выдающиеся исполнители, дирижеры, симфонические оркестры, театры.
С уважением вспоминаю первое поколение исполнителей. Это были уже состоявшиеся, уверенные, знающие себе цену артисты со своими пристрастиями, вкусами, пониманием жизни. Некоторые из них дружили со столичными звездами, поддерживая тем свое реноме, и интересно было в том, довольно замкнутом мире, где мы тогда жили, узнавать от них подробности «олимпа». Они преданно служили искусству. Словом, молодым было чему у них поучиться. Но было и от чего отказаться – артистический мир субъективен, противоречив, порой беспощаден и несправедлив, нам открывался он прежде всего в поступках «опытных». Очень важно было для каждого из нас не потеряться в этом сложном мире.
Мысленно возвращаясь в те шестидесятые годы, вспоминаю евсе в сценах и событиях, деталях, репликах и лицах. Живо представляю музыковеда Иосифа Марковича Маевского! Вот он чинно подходит к театру, выставляя вперед трость, в помощи которой вовсе не нуждался, но она придавала значительности его невысокой фигурке с воздетой вверх головой! Он очень «держал себя»!
Никогда не выходил из образа! А что пряталось за образом? Кто знает. Он был сам – , один, не помню, чтоб он с кем-то горячо дружил, но и не ссорился. Был очень самолюбив, не терпел никаких шуток в свой адрес. Однажды его изобразили в капустнике. О! Он испепелил пародиста и взглядом, и презрительным словом об отсутствии у того таланта, причем произнес он это слово походя, не удостоив своего обидчика чести предстать пред его, мэтра, очами! Артистический люд слагал о нем притчи: когда выпрямляли дорогу Сочи – Адлер, по которой мы ездили в санатории, появился тоннель, въездом в него служила (и служит!) арка с огромной «М» наверху. Кто-нибудь из артистов, завидев ее первым, непременно с явным удовольствием поставленным голосом отчетливо читал:
– Маевский!
Повторялся и анекдот, неизвестно кем придуманный, но прижившийся в устной летописи, о том, что знаменитый музыковед, друг Шостаковича, Иван Иванович Соллертинский, заболел манией величия – – он ходит по кабинету и повторяет:
– Я – Маевский! Я – Маевский!
У Иосифа Марковича как авторитетного члена художественного совета было всегда строгое бескомпромиссное требование к исполнителю, он играл роль камертона, по которому безошибочно проверялось качество принимаемой программы. Порой его оценка, если это касалось коллеги, была не беспристрастной, со временем я научилась относиться к этому вполне, по-моему, разумно: не обижаться, а улавливать суть и благодарно принимать замечание, а к остальному относиться снисходительно. Снисхождению к другим надо было учиться, это очень полезное свойство, особенно «в зоне повышенной опасности», то есть – зоне повышенных амбиций.
Однажды (мы жили тогда в Летнем театре, Зимний был на ремонте), я сдавала худсовету программу «Русская народная песня». По-видимому, решила «опроститься», т. е. выглядеть попроще, поближе к «народу», соответствовать, так сказать, теме, и предстала с распущенными волосами. Все прошло хорошо, я вышла из театра. Светило солнышко, воздух был какой-то мягкий, ласковый, море внизу искрилось и играло – блаженство! Появился Иосиф Маркович, он подошел ко мне и повелительным жестом пригласил присесть на скамью. Он говорил со мной очень дружелюбно, даже с какой-то отеческой заботой, вставляя, однако, для порядка время от времени, как бы между делом, язвительные междометия, а под конец вдруг сказал:
– И пожалуйста, причесывайтесь, как прежде, зачем Вам это?
С тех пор никто никогда не видел меня на сцене «лохматой». Иосиф Маркович – личность для нашего города уникальная, и то, что он оказался в Сочи, было большой удачей. Его знания послужили городу в полную мощь. Не одно поколение выпускников музыкальной школы, где он преподавал много лет, пользовалось полученными от него сведениями и навыками, я не встречала ни одного, кто бы не отозвался с уважением о его уроках. Иосиф Маркович имел склонность к жанру монографии, его концертные программы часто таковыми и становились. Если уж Чайковский, то – обзор всего творчества, если оперные достижения Верди, то будет последовательно изложена вся хронология. Помню, довелось мне слушать его беседу о советской песне – не очень его тема, не слишком уютно он в ней себя чувствовал, не его размах! И все же нашел, чем зацепить курортного зрителя! «Опера, – объяснял он, – длится три часа, а песня – всего три минуты, но сколько в ней можно сказать!» Иосиф Маркович написал научную работу о том, как соединились музыка и живопись в жизни художника-сказочника Ивана Билибина, мало кто знал об этом. А в девяностые, когда все вокруг разоряли, был безжалостно и недальновидно уничтожен и наш музей в Зимнем театре, который с большой любовью собирала Валентина Ивановна Хрящева – главный администратор (ее заботой была директорская ложа) и одно время, по-моему, заместитель директора театра. Мне позвонила Елена Вячеславовна Коломийцева, наш звукорежиссер и активистка, и сообщила, что на полу комнаты теперь уже бывшего музея валяется много фотографий, в том числе мои и Маевского. Я побежала, забрала кое-что, в том числе портрет Иосифа Марковича, и теперь прилагаю его к этим воспоминаниям. Он был в свое время напечатан в газете «Черноморская здравница» вместе с моей статьей-некрологом памяти артиста. Жаль, что не раньше…
Яркая глава в историю филармонии вписана четой Заслуженных артистов России певицы (сопрано) Людмилы Александровны Бровкиной и пианиста Сергея Аркадьевича Бабова. В упомянутом уже интервью, ради которого я впервые появилась в филармонии официально, в кабинет художественного руководителя вошла во время нашей беседы Людмила Александровна, «молода, стройна, бела, и умом, и всем взяла». Она только что возвратилась с победой из Москвы, и художественный руководитель познакомил меня с лауреатом Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни. Очень состоятельным был этот творческий семейный тандем: создаваемые артистами программы всегда готовились с особой тщательностью, отличались хорошим вкусом, исполнителям удавалось, учитывая разношерстные пристрастия публики, не делать ей реверансов. Эффектно исполненная фортепианная партия великолепно поддерживала голос, ансамбль был согласным и в музыкальном, и в эмоциональном отношениях, что производило впечатление на слушателей, всегда успешные выступления доставляли радость. Весь уклад семьи был подчинен творческим целям и мог служить примером. Никто не удивился, что дети пошли по стопам родителей: дочь и сын унаследовали профессию отца, оба – пианисты. Аркадий переехал в Москву, а Елена работает в филармонии, она обладает всеми творческими достоинствами своей семьи: всегда подготовлена, разыграна, ответственна, точно следует нотному тексту, указаниям композитора, слушает исполнителя, работать с ней в качестве солиста, будь ты инструменталист или вокалист, надежно и удобно. Людмила Александровна на своем продолжительном творческом пути несколько лет проработала художественным руководителем, и несомненной заслугой ее на этом поприще было появление в филармонии струнного квартета, что стало ступенькой вверх в ее развитии. Последние годы она отдала еще одному важному делу – привела в идеальный порядок библиотеку филармонии. Не знаю, как распорядились с этим богатством в период так называемых преобразований, может быть ее постигла участь музея, если так, не хочу об этом знать и спешно перехожу к следующей странице…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: