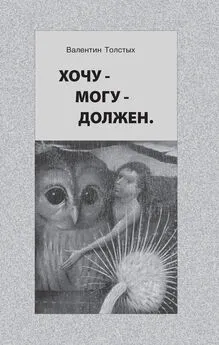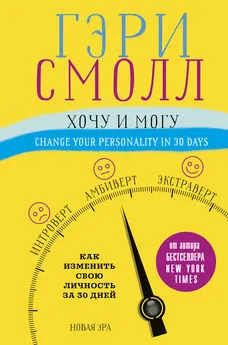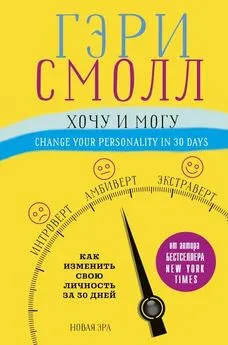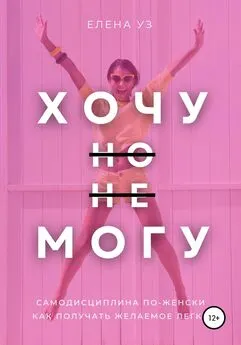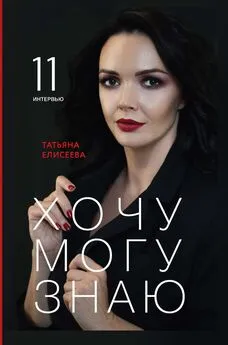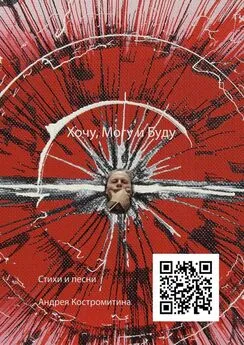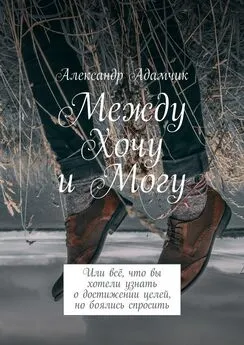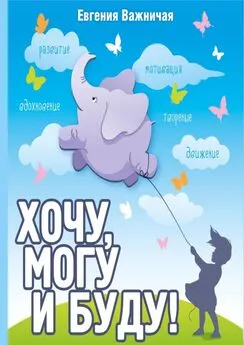Валентин Толстых - Хочу – Могу – Должен. Опыт общественной автобиографии личности
- Название:Хочу – Могу – Должен. Опыт общественной автобиографии личности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-424-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Толстых - Хочу – Могу – Должен. Опыт общественной автобиографии личности краткое содержание
Хочу – Могу – Должен. Опыт общественной автобиографии личности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я бакинец по рождению. Баку для меня – родной город, оставивший в сердце и памяти немало «зарубок» – не только ярких воспоминаний и глубоких впечатлений, но и уроков – примеров общения с культурой и образом жизни целого народа – азербайджанцев. Здесь я провел детство и юность: сначала в поселке Шаумяна, потом в «Черном городе» и поселке Монтина, где учился в школе № 157. Именно в Баку, среди азербайджанцев, русских и армян получил первую прививку интернационализма (следующую, пожив на Украине, вместе с украинцами и евреями) и приехал в Москву уже сложившимся советским человеком. До сих пор не приемлю любой национализм. На себе испытал живительную и обогащающую силу диалога культур, способного соединить и объединить людей на началах истины, добра и красоты. Помню и многие «детали» бакинского детства – изумительную по чистоте и вкусу «шолларскую воду», замечательный «каспаровский хлеб» и шелковицу, которой мы, мальчишки, объедались, лазая по тутовым деревьям, наконец Каспийское море, подарившее пожизненную страсть к морской стихии.
В школе учил азербайджанский язык (как на Украине – украинский), и мальчишкой, когда «прорезался» голос, полюбил оперу, с удовольствием посещая дневные спектакли – оперы «Кёр-оглы» и «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибекова, в потрясающем исполнении Бюль-Бюля и Шевкет Мамедовой, однажды на фестивале самодеятельности, на той же сцене, сам с успехом спел «Вдоль по улице метелица метет…»; посещал и любил русский «бакинский Рабочий театр» (БРТ), а также оперетту. Навсегда запомнил отдых в пионерских лагерях в Бузовнах и Мардакянах, поселок Зых, где жили бабушка и дедушка, работавший на Кислородном заводе … В годы войны отец, инженер-строитель, строил Сумгаитскую линию обороны, на случай прорыва немецко-фашистских войск, а осенью 1944 года решением ЦК компартии Азербайджана был послан на восстановление освобожденных территорий Украины, в город Николаев, куда на постоянное местожительство переехала вся семья.
Прожив долгую, сложную и в целом очень счастливую жизнь, с благодарностью вспоминаю свой бакинский период, когда складывался мой характер и основы будущего мировоззрения. Рад тому, что, несмотря на всё пережитое в жизни, хорошее и плохое, удалось сохранить веру в человеческое достоинство и не заболеть модной сейчас болезнью беспамятства. Желаю Баку и бакинцам добра, благополучия и процветания.
Детство в целом запомнилось как нечто светлое и радостное. Нам с братом было интересно и дома, и в шумном дворе, где детвора почти ежедневно встречалась и играла. И здесь самый раз сказать слово о поселке имени Степана Шаумяна (по имени одного из 26-ти «бакинских комиссаров», расстрелянных эсерами и английскими интервентами в 1918 году), а мы называли его Арменикендом, где на 11-й и 6-й Кантопинской улицах мы несколько лет жили с родителями. Баку достоин внимания не только как биографический факт, ибо здесь я прожил целых пятнадцать лет, город интересен и сам по себе. Верно кем-то сказано, что бывших бакинцев не бывает. Баку остался в памяти не только и не просто как место рождения, с ним связаны впечатления и обретения, значение и ценность которых с годами не угасает, становятся лишь «далеким прошлым». Я имею в виду прежний, «старый» Баку, не сравнивая его с «новым», каким он стал за прошедшие полвека, когда я редко с ним виделся и не вправе его сопоставлять с Баку советским.
Тот, старый Баку, мне нравился уже потому, что мы, тогда дети – русские, азербайджанцы и армяне – жили в нем дружно, мы именно дружили, а не демонстрировали идею «дружбы народов». Играли в самые разные игры, в том числе напоминающую нашу лапту, название которой я забыл, катались на самодельных самокатах (шарикоподшипниках), а велосипед был редкостью, «роскошью», конечно, иногда «обзывались» и дрались, потом мирились. Таким был настрой и уклад всей повседневной жизни. Все оставались самими собой, никто не изображал из себя «главного», а говорили на русском как на языке межнационального общения. То, что взрослые именовали интернационализмом, мы, дети, осваивали и усваивали на бытовом, уличном уровне. Случались и казусы, вроде того, как меня некоторые русские ребята дразнили, называя то «армяшкой», то «еврейчиком», и однажды я спросил маму, является ли мой папа «моим отцом», на что она, всплеснув руками, ответила: «Конечно же, он твой папа, и ты русский. Не слушай эти глупости?!.» В общем и целом не только дети, но и взрослые жили и общались тогда в нормальном цивилизованном ключе, оставаясь самими собой, верными своим национальным традициям и обычаям. Интернационализм выражался и выступал тогда в форме приверженности народов и наций общественным идеалам и целям того времени – социализму и коммунизму.
В повседневности и быту всё было еще проще и понятнее. Запомнились манеры и словесные обороты: например, ударив ладонями, «по рукам», завершали достигнутое соглашение; на базар не «ходили»», «базар делали». При этом у каждого бакинца был свой Баку. Мне, скажем, запали в память такие бытовые черты и детали: живя в армянском поселке, полюбил «мацони», кислое молоко, которое по утрам разносил по дворам разносчик-армянин, выкрикивая «Мацун! Мацун!»; нравилась азербайджанская брынза – «пендир», в сочетании с «каспаровским» хлебом с очень вкусной поджаристой корочкой, которую, не удержавшись от соблазна, наполовину съедал по дороге домой. До сих пор вспоминаю знаменитую бакинскую, «шолларскую», воду, не сравнимую ни с какой другой по чистоте и вкусу, и, конечно, чай в чайхане, в тонких стаканчиках и с сахаром вприкуску, под который мусульмане ведут серьезные беседы, обмениваются новостями, в отличие от русских, предпочитающих в таких посиделках водку и пиво. Правда, меня приобщила к чаю не чайхана, а бабушка Груня (мама моей матери), научив пить его обязательно с добавкой козьего молока, а спустя годы эту любовь укрепили китайцы, объяснив и внушив мне целительную силу зеленого чая. Всё это частности, «мелочи». Но город нравился вообще, как таковой, и таким, каким он исторически сложился, расположившись амфитеатром в Апшеронском заливе. Различали город верхний, с узкими улицами, минаретами, низкими балкончиками, сохранивший архитектуру и уклад прошлых веков, явно мусульманский по духу и обычаям, и город нижний – пестрый и сложный по составу населения, где темп и ритм задавали трамваи, а не фаэтоны, и любимые бакинцами места – приморский бульвар, две главные улицы – модная Торговая с её магазинами и променадом и строгая Коммунистическая (как она тогда называлась) с её официальными учреждениями и конторами. Может быть, я что-то подзабыл или перепутал, но хорошо помню красивый зал филармонии, где впервые подростком проникся мелодикой азербайджанских мугамов, а также оперный театр имени Мирза Фатали Ахундова, где мы с братом побывали на спектаклях-утренниках «Кер-Оглы» и «Лейла и Меджнун». Именно в Баку, в годы войны, я увлекся опереттой и часто посещал переселившийся сюда из Ростова-на-Дону театр музыкальный комедии, посмотрев, наверное, раньше положенного времени классику опереточного жанра – «Сильву», «Марицу», «Холопку», «Свадьбу в Малиновке» и другие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: