Константин Станиславский - Моя жизнь в искусстве
- Название:Моя жизнь в искусстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Станиславский - Моя жизнь в искусстве краткое содержание
Эту книгу вот уже многие годы с трепетом берет в руки всякий, кто решил посвятить себя искусству Театра, и не только у нас в стране, но и во всем мире. Ведь Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев, 1863-1938) – один из тех немногих, чье влияние на театральное искусство XX века невозможно переоценить. Великий актер, режиссер и реформатор, а главное – Великий Учитель, он своей деятельностью во многом определил и пути развития театра в грядущем столетии. Со страниц книги сходит человек открытый, необычайно тонко чувствующий, подчас кажущийся по-детски наивным. Но это не наивность, а та высшая степень мудрости, которая не нуждается в пространных рассуждениях и подчеркнутой многозначительности. Станиславский говорит с читателем на равных, он делится с нимсвоими трудностями, много и с юмором рассказывает о собственных ошибках и учит – умно, ненавязчиво, доброжелательно. И в учениках у него нет, не было и не будет недостатка.
Моя жизнь в искусстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он, как никто, любит гений Моцарта. Тем труднее ему решиться на убийство, тем сильнее его ужас, когда он понимает свою ошибку.
Таким образом, роль была мною построена не на зависти, а на борьбе преступного долга с поклонением гению. Этот замысел наполнялся все новыми и новыми психологическими деталями, от которых общие творческие задачи усложнялись. За каждым словом роли был накоплен огромный духовный материал, каждая мелочь которого была мне так дорога, что я не мог расстаться с нею.
Сейчас нет нужды разбирать, правильно или ошибочно я трактовал пушкинский образ.
То, что я делал,- я делал искренно; я чувствовал душу, мысли, стремления и всю внутреннюю жизнь моего Сальери. Я жил ролью правильно, пока мое чувство шло от сердца к двигательным центрам тела, к голосу и языку. Но лишь только пережитое выражалось в движении и особенно в словах и речи, – помимо моей воли создавался вывих, фальшь, детонировка, и я не узнавал, во внешней форме своего искреннего внутреннего чувства.
Я не буду говорить здесь о напряжении тела и о последствиях, им вызываемых. Об этом я говорил уже достаточно.
На этот раз главное было в том, что я не справлялся с пушкинским стихом. Я перегрузил слова роли и придал каждому из них в отдельности большее значение, чем оно может в себя вместить. Пушкинские слова как бы распухли.
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше…
В каждом из этих слов было заключено для меня так много, что содержание не вмещалось в форму и, выходя за ее пределы, распространялось в бессловесной, но многозначительной для меня паузе: каждое из распухших слов отделялось друг от друга большими промежутками. Это растягивало речь настолько, что к концу фразы можно было уже забыть ее начало. И чем больше я вкладывал чувства и духовного содержания, тем тяжелее и бессмысленнее становился текст, тем невыполнимее была задача. Создавалось насилие, от которого, как всегда, я начинал пыжиться и спазматически сжиматься. Дыханье спиралось, голос тускнел и хрипел, диапазон его суживался до пяти нот, уменьшалась его сила. При этом он стучал, а не пел.
Пытаясь придать ему больше звучности, я невольно прибегал к обычным банальным актерским приемам, т. е. к ложному актерскому пафосу, к голосовым каденциям, фиоритурам.
Этого мало. Насилие, зажимы и напряжение, с одной стороны, боязнь слов вообще, и в частности – пушкинских стихов, с другой стороны, наконец ощущение фальши и вывиха,- все это тянуло меня на тихую речь. Вплоть до генеральной репетиции я шептал роль. Казалось, что на тихом голосе скорее зацепишь верный тон и что фальшь менее слышна на шепоте. Но и неуверенность, и шепот мало подходят к кованому пушкинскому стиху; они лишь усугубляют фальшь и выдают актера.
Меня уверяли, что боязнь слова и тяжесть речи происходят оттого, что я неправильно передаю мысли и скандирую стихи. Предлагали отметить по всей роли выделяемые слова. Но я знал, что дело не в этом. Надо было временно отойти от роли, успокоить чересчур взволнованные чувства и воображение, найти в себе ту гармонию, которой проникнута пушкинская трагедия в целом и которая придает ее стиху такую прозрачность и легкость,- и тогда вновь вернуться к своей роли. Я уже не имел возможности этого сделать.
Но было и еще нечто, что мешало мне при передаче пушкинского стиха и что я уловил при работе над "Моцартом и Сальери".
Мучительно не быть в состоянии верно воспроизвести то, что красиво чувствуешь внутри себя. Я думаю, что немой, пытающийся уродливым мычанием говорить любимой женщине о своем чувстве, испытывает такое же неудовлетворение. Пианист, играющий на расстроенном или испорченном инструменте, переживает то же, слыша, как искажается его внутреннее артистическое чувство.
Чем больше я прислушивался к своему голосу и речи, тем яснее мне становилось, что я не впервые так плохо читаю стихи. Я всю жизнь так говорил на сцене. Я стыдился прошлого. Мне хотелось вернуть его, чтобы изгладить произведенное раньше впечатление. Представьте себе, что певец, певший с успехом, вдруг, под старость, узнает, что он всю жизнь детонировал при пении. Сначала он не хочет верить открытию. Он ежеминутно подходит к фортепиано и проверяет взятую голосом ноту, спетую фразу и убеждается в том, что он понижает на четверть тона или повышает на полтона… Совершенно то же пережил и я в то время.
Мало того. Оглядываясь назад, я понял, что многие из прежних моих приемов игры или недостатков – напряжение тела, отсутствие выдержки, наигрыш, условности, тик, трюки, голосовые фиоритуры, актерский пафос – появляются очень часто потому, что я не владею речью, которая одна может дать то, что мне нужно, и выразить то, что живет внутри. Почувствовав на самом себе так ярко настоящее значение в нашем искусстве красивой и благородной речи как одного из могучих средств сценического выражения и воздействия, я в первую минуту возрадовался. Но когда я попробовал облагородить свою речь, я понял, что это очень трудно сделать, и испугался вставшей передо мной трудной задачи. Вот когда я до конца понял, что мы не только на сцене, но и в жизни говорим пошло и безграмотно; что наша житейская тривиальная простота речи недопустима на сцене; что уметь просто и красиво говорить – целая наука, у которой должны быть свои законы. Но я не знал их.
С тех пор мое артистическое внимание устремилось в сторону звука и речи, к которым я стал прислушиваться как в жизни, так и на сцене. Более, чем когда-либо, я возненавидел актерские зычные голоса, их грубую подделку под простоту; сухую ударную речь, торжественный монотон, механическое отбивание хорея, анапеста и проч., ползущие кверху хроматические ходы, голосовые перескоки на терцию и квинту со сползанием вниз на секунду в конце фразы и строки.
Нет ничего противнее деланно-поэтического слащавого голоса в лирических стихотворениях, переливающегося, как волны во время мертвой зыби. О эти ужасные концертные чтицы, нежно читающие миленькие стишки: "Звездочка, звездочка, что ж ты молчишь?" Меня приводят в ярость актеры, декламирующие с разрывным темпераментом Некрасова или Алексея Толстого. Я не выношу их отчеканенной дикции, отточенной до колючей остроты и назойливой четкости.
Есть другая манера декламации и стихотворной речи: простая, сильная, благородная.
Я урывками, намеками слышал ее у лучших артистов мира. Она мелькала у них лишь на минуту, чтобы снова скрыться в обычном театральном пафосе. Я хочу именно такой простой, благородной речи. Я чувствую в ней настоящую музыкальность, выдержанный, верный и разнообразный ритм, хороший, спокойно передаваемый внутренний рисунок мысли или чувства. Я слышал своим внутренним слухом такую музыкальную стихотворную речь и не мог уловить ее основ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
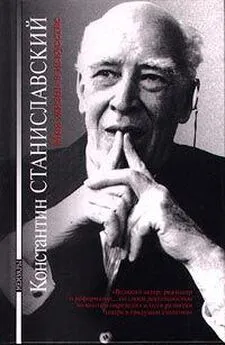

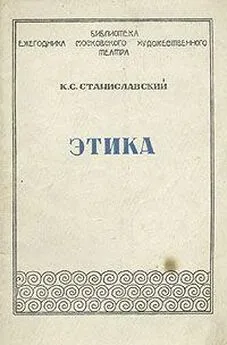



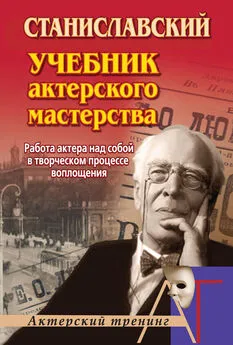

![Константин Станиславский - Полный курс актерского мастерства. Работа актера над собой [litres]](/books/1064400/konstantin-stanislavskij-polnyj-kurs-akterskogo-ma.webp)

