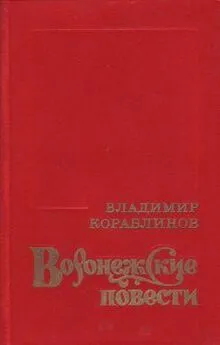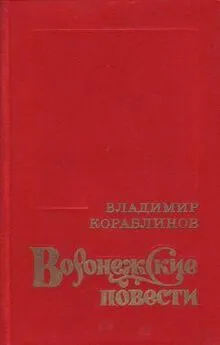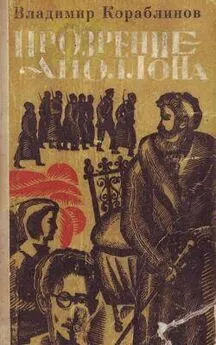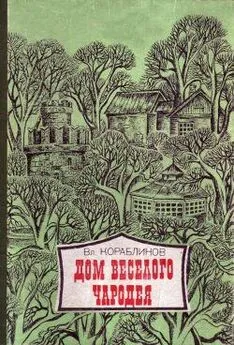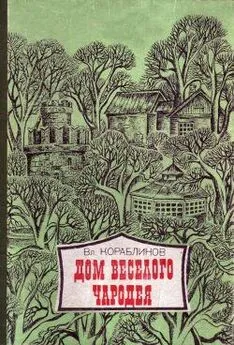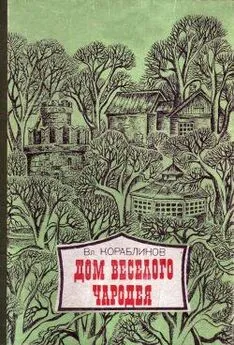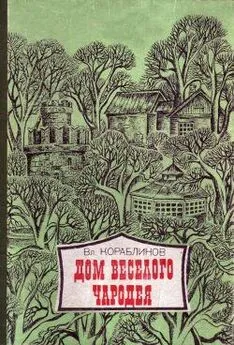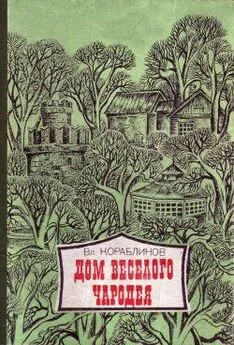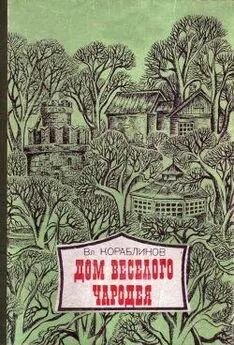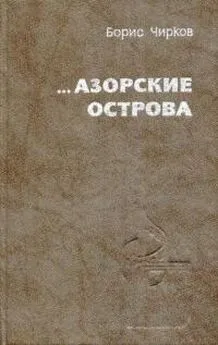Владимир Кораблинов - Азорские острова
- Название:Азорские острова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Кораблинов - Азорские острова краткое содержание
«… И как же тут снова не сказать об озарениях.
Многое множество накоплено в памяти странных мимолетностей, которые со мной навечно. И добро бы что высокое, героическое или ослепительно прекрасное, – нет! Вот Яша, например, с его уютным хозяйством. Вот стожок под снегом и красные снегири на ветках, как райские яблочки.
Вот – шевелящийся свет от фонаря на потолке.
Черный колодезь и сверток со стихами.
Мужичище в маньчжурской папахе.
Театральный занавес, подсвеченный снизу, и деревянный стук разбитого пианино.
Нерусский черт с дирижерской палочкой. <…>
Сколько их, этих отзвуков, этих озарений!
Они возникают непроизвольно, в безбрежье памяти появляются вдруг, как Азорские острова в океане. И не в связи с чем-то, и вовсе не всегда кстати, но всегда стихийно и радостно.
И я буду проплывать мимо этих островов памяти, не спеша, пристально вглядываясь в их причудливые очертания, дополняя воображением то, что иной раз окажется скрытым в глубине заросших лесами и травами берегов. …»
Азорские острова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Скребыхает, понимаешь, по рельсам, как нож на точиле.
«Ах, черт! – подумал я. – Вот ведь как опростоволосился…» И прочитал в отместку:
Там, где чапыжник
в урочье волчьем
уходит на дно оврага,
леший гудит в переладец
ночью,
и тлеет, дымится чага…
Исак, конечно, ничего не понял – что за чага, что переладец, что чапыжник, – но виду не подал, заметил снисходительно:
– Поэтично. Совсем как в «Гайавате»: шли команчи и чоктосы и – кто там еще?
И вот уже вечер пал. Осколок луны над немецкой кирхой на Никитинской. Там, в нише, долго сидели, читали наперебой – свое, чужое.
Потом, как водится, бесконечно провожали друг друга: он меня до Соляных амбаров [2], я его – до Средне-Московской. Расставаясь, я сказал, что было бы чудесно познакомиться с другими поэтами и собираться вместе читать стихи.
– А знаете, – таинственно захрипел Исак (мы с ним не вдруг перешли на «ты»), – знаете, я слышал, что у какого-то профессора вот так, как вы говорите, собираются…
И он впервые назвал до этого вечера незнакомую мне фамилию: Загоровский.
Стал я ломать голову – как бы это ухитриться свести знакомство с профессором и получить приглашение бывать у него.
Надо признаться, что самое слово профессор наводило робость. В короткой своей жизни я лишь единственного профессора видел – Н. А. Сахарова, который преподавал у нас в училище физику. Это был длинный, костлявый старик, темным, изможденным лицом удивительно похожий на древнюю икону какого-то сердитого святого. Страшно было и подумать пойти к такому. Но помог, как это часто бывает, случай, и все устроилось хорошо и просто.
В зале музыкального техникума шел вечер, посвященный Пушкину. Я опоздал, уже началось. На эстраде, словно черной гравюрой впечатанный в холодный, морозный блеск белых стен, в сиянии ослепительных люстр удивительный человек пел Пушкина:
Т-р-рещат кавалер-р-гар-рдов шпор– р-ры,
Л-летают ножки мил-л-лых дам…
Да, вот именно, не читал – пел. С треском раскатывал р-р-р, где о шпорах, ласково, певуче – о ножках «мил-л-лых дам». Впервые слышал я такое чтение – на звонких, высоких потах, – сама музыка, сама мелодия!
Человек был темноволос, темноглаз, необыкновенно пластичен в движениях; в его тонком, выразительном лице легко угадывался южанин. Я спросил: кто это? Мне ответили: Загоровский.
Оказывалось, его пригласили сделать небольшое вступление к музыкальной части вечера. Стихами он лишь иллюстрировал великолепную лекцию – но как! Он читал отрывки из Пушкина, но это был совсем не тот Пушкин, какого мы проходили , нехотя заучивали наизусть, за которого нам ставили пятерки или единицы, которого по призыву Алексея Крученых даже собирались «сбросить с корабля современности», – нет, что вы! Этот Пушкин поражал новизной и открывался вдруг, как чудо; каждая строчка этого Пушкина блистала, тревожила, улыбалась, звала. Думаю, что с Пушкиным у многих так происходило: открывался именно вдруг и на всю жизнь.
Я словно в столбняке сидел, боясь пошевелиться, спугнуть очарование. И лишь когда шумно зашелестели аплодисменты, вскочил, кинулся опрометью к выходу, с отчаянной решимостью остановить Загоровского, заговорить с ним, напроситься на его вечера.
Он долго не появлялся из комнаты, примыкавшей к эстраде, или «артистической», как ее называли: видимо, остался послушать концерт. До меня доносилась приглушенная музыка, я узнавал исполнителей: грозовые раскаты рояля – это известный скрябинист Г. И. Романовский; нежнейший вздох виолончели – Вольф-Израэль; квартет скрипачей – еще очень юные музыканты – П. Мирошников, М. Крячко, А. Рязанцев, А. Тимкин… Сцена на кладбище из «Каменного гостя» – студийцы Михаил Синий и Миша Берлин. Дон-Жуан и Лепорелло… Я терпеливо ждал.
Нот вот он вышел в антракте. Я кинулся к нему:
– Товарищ Загоровский!
Говор, шарканье шагов. Он не слышит. В отчаянии схватил за рукав.
– Вы ко мне? – обернулся. – Вы что-то хотите сказать?
Боже мой – сказать! Как скажешь, если глотку словно клещами перехватило, если язык онемел!
– Я… я… Позвольте мне к вам…
Он участливо и даже как будто с интересом вглядывался в мое, скорей всего, смешное, растерянное лицо. И вдруг:
– Вы пишете стихи? – спросил, видимо уверенный в том, что так оно и есть, что иначе и быть не может. – Приходите, конечно, искренне будем рады. Мы собираемся по четвергам. Запишите: Поднабережная, семь. Это на углу Манежной. Обязательно приходите…
Его окликнули, он сказал: «Простите, зовут», – поклонился и ушел, смешался с многолюдством А я, счастливый, обалдело глядел вслед и все повторял:
– Поднабережная, семь… Поднабережная, семь…
Улица моя роковая!
Стала задача: с чем идти, что прочитать? Вот когда робость лихорадкой заколотила – не осрамиться бы… Рассказал Гилевичу, тот заржал:
– Отлично! Вместе пойдем.
– Да, но что нести?
– Фу, черт! Тащи все – и «Ташкентские» и «Кабатчицу».
– «Трактирщицу», – поправил я.
– Какая разница, – пожал плечами Исак.
В половине восьмого мы отправились.
И – вот она, моя милая Поднабережная: знакомые, тысячу раз исхоженные, щербатые ступеньки тротуара; знакомая тишина, распахнутые настежь окна, музыка… И – белый двухэтажный дом, аккурат напротив того, другого, где жила семья присяжного поверенного. «Любить и целова…» Охапки кленовых листьев в карачунском кувшине… Все, все мгновенно откликнулось, вспомнилось, как вдруг проблеснувшая строчка стиха, – радостно и тревожно.
Но вот – черной клеенкой обитая дверь, визитная карточка: «Павел Леонидович Загоровский». Что ж этак топтаться-то у порога, надо звонить. Мы поискали кнопочку звонка, не нашли, постучали. Дверь открыл сам хозяин.
– А-а! Чудесно, чудесно! Сюда пожалуйте…
Через крохотную переднюю ввел нас в такой же крохотный кабинетик, где была уютная теснота от книжных полок и людей; где пронзительный девичий голос в общем гуле голосов кричал что-то о балалайке, а мрачный, глухой бас упрямо возражал: «Позвольте, Танечка, какая же это рифма, это черт знает что, а не рифма…»
– Знакомьтесь, – посмеиваясь, сказал Загоровский. – Вот, прошу, начнем со спорщиков: Таня Русанова, поэтесса (жест рукой в сторону худенькой, непоседливой девицы)… Пузанов Веньямин Петрович, прозаик…
Девица так и взметнулась.
– Вот вы, вот вы, – налетела на нас с Исаком, – вот вы скажите ему – какой ассонанс! «Балалайка – алым лаком»! А? Ведь как звучит!
– Черт знает что! – басил Вениамин Петрович. – При чем тут алый лак, не понимаю…
Он стоял, огромный, под потолок; из рукавов грубого самовязного свитера виднелись могучие толстопалые руки; лицо доброго славянского великана выражало огорчение и растерянность. И вдруг улыбнулся, весь расцвел добродушием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: