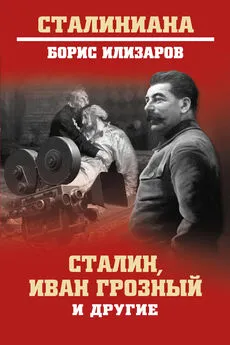Борис Флоря - Иван Грозный
- Название:Иван Грозный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02340-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Флоря - Иван Грозный краткое содержание
Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас - спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие - гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.
О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.
Иван Грозный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такое отношение к изменникам вытекало из убеждения царя, что те, кто препятствует ему в исполнении возложенной на него Богом священной миссии, сами поставили себя за пределы христианского мира, заслуживают самых страшных наказаний на земле и не могут рассчитывать на спасение своей души. Это убеждение с большой силой отразилось на страницах Первого послания Курбскому. «Аз же исповедаю и свем, — писал царь, — иже не токмо тамо (то есть на том свете, в загробном мире. — Б.Ф.) мучение преступающим заповеди Божия, и зде Божия праведного гнева по своим злым делом чашу ярости Господня испивают и многообразными наказании мучатся, а по отшествии от света горчайшее осуждение приемлюще».
В ответ на угрозы Курбского, что казненные царем «у престола Господня стояще... отмщения на тя просят», царь восклицал: «Убиенных же по своим изменам у престола Владычня предстояти как возможно есть». Высказывался царь и более конкретно. Так, обращаясь к Курбскому, он писал, что раз князь сам поставил себя изменой вне христианства — «и по сему убо несть подобно и пению над тобою быти» (то есть по изменнику после его смерти не должны совершаться заупокойные службы).
В себе царь видел оружие Божьего гнева, очищающее православную землю от носителей зла. Не случайно в «Записках» Штадена, сохранивших некоторые отголоски опричной пропаганды, по поводу казни опричников, нарушивших клятву на кресте не общаться с земскими, читаем слова: «и таких наказывает Бог, а не государь». Такое убеждение ясно проявилось в поступках царя еще до учреждения опричнины. Показательно в этом плане, как он поступил с полоцкими евреями. Как отметил псковский летописец, Иван IV после взятия города «велел их и с семьями в воду в речную вметати». Это можно было бы считать актом бессмысленной жестокости. Однако, по сообщению польского хрониста Александра Гваньини, евреев утопили в Двине после того, как они «не захотели принять святое крещение». Евреи были для царя очевидным воплощением зла (они не признали истинного Бога, подвергли его мучительной казни и продолжают упорствовать в своих заблуждениях несмотря на распространение истинной веры по всему миру), а зло должно быть искоренено. Им не помогло и то, что, согласно сообщениям Штадена, они «предлагали великому князю много тысяч флоринов выкупа». Изменники же в представлении царя были, вероятно, немногим лучше евреев.
Таубе и Крузе с некоторым недоумением писали, что для совершения убийств царь не использует ни палачей, ни слуг, а только «святых братьев» (то есть членов созданного царем опричного «братства»). Братья пользовались для этого острыми наконечниками своих посохов и длинными ножами, которые носили под рясами. Однако в свете всего сказанного выше такое поведение царя вполне понятно. Доверенную Богом царю миссию по очищению православного царства от носителей зла могли исполнять не всякие люди, а лишь облеченные его доверием, достойные быть допущенными к исполнению столь важного дела.
Первый год существования опричнины был отмечен не только убийствами и казнями. Тогда же царь осуществил и ряд других мер, которые показывают, что своеобразный политический переворот в стране был предпринят не только для того, чтобы покарать за измену отдельных вызвавших его недовольство подданных. После рассказа о первых казнях в Москве составитель официальной летописи отметил: «А дворяне и дети боярские, которые дошли до государские опалы, и на тех опалу свою клал и животы их имал за себя: а иных сослал в вотчину свою в Казань на житье з женами и з детми». Официальный летописец не объяснил, кого именно царь сослал в Казань. Ответ на это дает запись в «Разрядных книгах»: «Тово же году послал государь в своей государской опале князей Ярославских и Ростовских и иных многих князей и детей боярских в Казань и в Свияжской город на житье и в Чебоксарской город». Почему в «Разрядных книгах» появилась такая не характерная для этого источника запись, будет объяснено ниже.
Как следует из записи «разрядов», опале и ссылке подверглась самая знатная часть дворянского сословия — князья Рюриковичи. Сохранившиеся податные описания Казанского и Свияжского уездов, исследованные Русланом Григорьевичем Скрынниковым, позволяют составить более конкретное представление о круге лиц, подвергшихся опале.
В Казань были сосланы десятки князей не только ярославских и ростовских, но и стародубских — еще одной ветви потомков Рюрика. В Казанском крае они получили дворы в городах и поместья из фонда государственных земель, образовавшегося после присоединения Казанского ханства и гибели в войнах 50-х годов значительной части татарской знати. Родовые же их вотчины как владения лиц, подвергшихся опале, переходили под власть царя. В ряде документов отмечены составленные в 1565 году книги подьячего Максима Трифонова, «отписывавшего на государя» княжеские вотчины в Ярославском и Стародубском уездах. Не исключено, что посещение царем осенью 1565 года Ростова и Ярославля (о чем сообщает официальная летопись) было вызвано желанием лично проконтролировать, как выполняется его распоряжение. Утратив родовые вотчины, принадлежавшие им на протяжении веков, князья ростовские, стародубские и ярославские превращались в зависимых от правительства владельцев поместий в далеком, чужом, недавно завоеванном крае, где они не имели никаких корней.
Но этим дело не ограничилось. Их ссылка в Казань означала не только смену статуса их земельной собственности, но и решительные изменения их места на лестнице сословной иерархии. В состав «государева двора», в котором ростовские, стародубские и ярославские князья до опричнины занимали видное и почетное место, не входили представители дворянства окраин — Поволжья (начиная с Нижнего Новгорода), Смоленщины, Северской земли. Поэтому превращение князей — потомков Рюрика в помещиков среднего Поволжья означало их фактическое исключение из состава двора как объединения людей, причастных к управлению Русским государством. В новом положении они могли рассчитывать на какую-то карьеру лишь в пределах Казанского края. Именно поэтому и появилась запись в «Разрядных книгах» — со ссылкой в Казань ростовские, стародубские и ярославские князья уже не могли претендовать на военные и административные должности общегосударственного значения и участвовать в местнических спорах. К этому следует добавить, что на территории Казанского края, недавно завоеванного и управлявшегося по-военному, во второй половине XVI века не существовало тех органов сословного самоуправления, которые были созданы на территории России в ходе реформ 40 — 50-х годов XVI века. Таким образом, казанские ссыльные не могли здесь пользоваться всеми теми правами, которыми к середине XVI века пользовалось в общем порядке русское дворянство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: