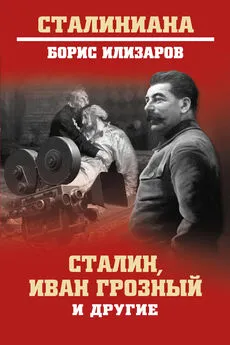Борис Флоря - Иван Грозный
- Название:Иван Грозный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02340-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Флоря - Иван Грозный краткое содержание
Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас - спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие - гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.
О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.
Иван Грозный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в результате мер, осуществленных новой, опричной властью, часть дворянского сословия, занимавшая самое почетное и видное положение, была отодвинута на периферию общественной жизни. Если к этому добавить, что по указу об учреждении опричнины в состав опричного государства был включен Суздаль и суздальские князья (еще один род потомков Рюрика), не принятые в опричнину, должны были проститься со своими родовыми вотчинами, то станет окончательно ясно, какая часть дворянского сословия стала объектом репрессий после учреждения опричнины.
Изучая внимательно материалы о казанской ссылке, Р. Г. Скрынников сделал одно важное наблюдение, которое позволяет уточнить наши представления о том, кто именно подвергся репрессиям. К середине XVI века далеко не все из князей — потомков Рюрика владели вотчинами в своих старых родовых гнездах, многие из них уже были связаны с различными уездами, где находились их новые владения, подчас весьма далеко от старой родовой территории. Эти члены княжеских родов не подверглись гонениям и не были сосланы в Казань. Некоторые из них, напротив, попали в особый двор царя при учреждении опричнины и сделали там успешную карьеру. Примером может служить известный воевода второй половины XVI века князь Дмитрий Иванович Хворостинин. Член ярославского княжеского рода, он не имел земель в Ярославле, а служил как сын боярский сначала по городу Белой, а затем по Коломне. Уже в 1565 году он был воеводой в опричном войске, посланном против татар. Таким образом, репрессиям подвергались только те члены княжеских родов, которые имели родовые вотчины в своих старых родовых гнездах.
Чем аргументировал царь необходимость принятия новой опричной властью именно таких, а не каких-то иных мер? Прямого ответа на этот вопрос источники не дают. Можно лишь предполагать, что в князьях — потомках бывших удельных «государей», царь видел силу, угрожавшую единству государства, и подозревал их в намерении снова разделить Россию на удельные княжества. Характерно в этой связи, что Курбского — члена княжеского ярославского рода, царь после его побега обвинял в том, что тот хотел «в Ярославле государити». Сходным образом понимали дело и некоторые исследователи нашего времени, начиная с такого выдающегося историка рубежа XIX— XX веков, как Сергей Федорович Платонов. Главной заслугой Грозного в их глазах было то, что репрессиями против княжат он устранил угрозу государственному единству. Однако не следует ли видеть в таком понимании исторических явлений дальний отголосок дилеммы, сформулированной в русском общественном сознании самим Иваном IV, — либо неограниченная власть государя, либо многоначалие, анархия, распад? Действительно ли знать (прежде всего ее верхушка — члены княжеских родов) серьезно задавалась мыслями о расчленении государства?
Практика «боярского правления», показавшая неспособность захвативших власть знатных родов наладить эффективное управление государством, свидетельствует в том числе и о том, что бояре использовали в своих интересах существующий государственный аппарат, не пытаясь заменить его каким-либо другим. Более того, когда в 1540 году малолетнему Владимиру Старицкому был возвращен удел его отца, стоявшие у власти бояре позаботились о том, чтобы на территории княжества были «пожалованы» владениями «дети боярские великого князя», что делало самостоятельность княжества эфемерной. Следует обратить внимание и на активное участие знати в проведении реформ 50-х годов, устанавливавших единые порядки на всей территории государства.
К весьма интересным в этом плане результатам приводит анализ взглядов человека, вышедшего как раз из среды княжат — потомков бывших удельных государей — князя Андрея Михайловича Курбского, члена ярославского княжеского рода и владельца родовых вотчин в Ярославском уезде. Свое главное сочинение, «Историю о великом князе Московском», он написал в эмиграции, в Великом княжестве Литовском — государстве, традиционно враждебном России. Ничто не мешало Курбскому в этой среде говорить о необходимости восстановления удельных княжеств. Однако ничего подобного в его сочинении не обнаруживается. Правда, он не дает характеристики того, каким, по его мнению, должен быть государственный строй России (не считая пожеланий, чтобы правитель считался с мнением своих советников), но об этом можно судить по ряду косвенных данных. Так, в «Истории» Курбский выступает горячим сторонником войны с мусульманскими царствами и наступления на них. Он горько порицает царя Ивана за то, что тот не послал войска для завоевания Крыма, как ему советовали Курбский и другие бояре. С одобрением писал Курбский и об успехах русских войск в Ливонии и завоевании находящихся там «крепких градов». Очевидно, что такую масштабную и активную внешнюю политику, сторонником которой был Курбский, могло вести только сильное единое государство.
Все это, однако, не означает, что для мер, предпринятых царем, не было никаких оснований. Власти действительно могла угрожать со стороны княжеских родов серьезная опасность. Чтобы выяснить, в чем могла заключаться эта опасность, следует установить, какие особенности отличали князей-владельцев родовых вотчин от других слоев и групп в составе русского дворянства.
Разнообразные исследования показывают, что землевладение бояр московских великих князей (как, вероятно, и бояр других княжений, на которые делилась средневековая Русь в эпоху феодальной раздробленности) сформировалось сравнительно поздно — уже в XIV—XV веках, главным образом за счет княжеских пожалований. Владения не только членов виднейших боярских родов, но и князей Гедиминовичей, выехавших на русскую службу и породнившихся с великокняжеской семьей, были разбросаны по многим уездам, не образуя никакого компактного единства. Так, земли, отобранные у Федора Свибла, боярина Дмитрия Донского, состояли из 15 владений, расположенных в семи уездах. Владения князя Ивана Юрьевича Патрикеева, потомка Гедимина и двоюродного брата Ивана III, складывались из 50 владений, расположенных в 14 уездах. При этом владения членов одних и тех же родов могли располагаться в совершенно разных уездах. Совсем иной характер имело родовое землевладение княжат. Это были земли, унаследованные ими от предков — бывших удельных государей. Поэтому, в отличие от владений московского боярства, родовые вотчины князей располагались компактно на территории того княжества, которым некогда владел их предок. Нормы права, установившиеся, по-видимому, еще в правление Ивана III, способствовали сохранению этих вотчин в руках княжат, запрещая продавать их родовые земли «мимо вотчич» (то есть за пределы круга родственников). Наличие в руках княжеских родов компактно расположенного значительного родового землевладения делало их влиятельной силой на территориях их бывших княжеств, центром притяжения для местных землевладельцев. Так, в тверских податных описаниях середины XVI века сохранились многочисленные сведения о местных детях боярских, служивших князьям Микулинским — членам тверского княжеского рода, вымершего еще до начала опричнины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: