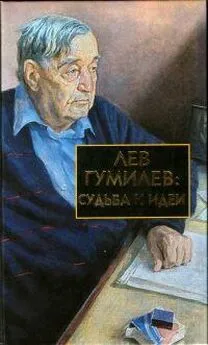Сергей Лавров - Лев Гумилев: Судьба и идеи
- Название:Лев Гумилев: Судьба и идеи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Айрис-пресс
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8112-2647-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Лавров - Лев Гумилев: Судьба и идеи краткое содержание
Книга посвящена драматичной судьбе и научному творчеству выдающегося отечественного историка, этнолога и географа Льва Николаевича Гумилева. Центральную часть ее занимает работа президента Русского географического общества С. Б. Лаврова, около 30 лет проработавшего вместе с Л. Н. Гумилевым на Географическом факультете ЛГУ и в Географическом обществе. Книга дополнена автобиографией Л. Н. Гумилева и его воспоминаниями о своих знаменитых родителях Николае Гумилеве и Анне Ахматовой, а также воспоминаниями наиболее близких к нему людей — его вдовы Н. В. Гумилевой, писателя Д. М. Балашова, Ю. К. Ефремова К. П. Иванова и других.
Книга представит большой интерес для всех, кто интересуется творчеством выдающегося ученого и мыслителя.
Лев Гумилев: Судьба и идеи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь я с трепетом вновь и вновь включаю магнитофон, чтобы услышать эту запись, в которой Лев Николаевич не только поведал обо всех перипетиях своей трудной жизни, но и прочитал три коротких стихотворения о подвигах Геракла, подаренных маленькому Лёве отцом во время одного из приездов в Бежецк. Стихи эти не вошли в собрания сочинений Н. С. Гумилева. Но дело было не только в самих неопубликованных стихах знаменитого мэтра. Оказалось, что чтение этих стихов Львом Николаевичем, удивительно точно совпадало по тембру и интонации с интонациями отца, запись голоса которого имелась у меня и была копией с записи на восковом валике фонографа Петроградского института живого слова, сделанной в феврале 1920 года. Так встретились отец и сын, которые по духу своему, по пониманию силы поэтического слова были очень близки.
Немало рассказал Лев Николаевич об Анне Андреевне Ахматовой, о тех годах, когда они жили вместе, о посылках, которые передавала мать своему заключенному в тюрьму сыну, о том, как, возвратившись из лагеря, он помогал Анне Андреевне переводить стихи зарубежных поэтов и «кое-чему научился сам». Говорил он с горечью и о том холодном отчуждении, которым встретила его Ахматова после возвращения из омского лагеря в 1956 году. «К сожалению, я застал женщину старую и почти мне не знакомую, — вспоминал Лев Николаевич. — Ее общение за это время с московскими друзьями — Ардовыми и их компанией, среди которых русских, кажется, не было никого, очень повлияло на наши отношения». Однако теплые чувства к своей гениальной матери и ее творчеству никогда не покидали Льва Николаевича. Когда же я стал расспрашивать Гумилева о его собственных стихах и переводах поэзии Востока, Лев Николаевич отшутился. «У всякой науки должна быть какая-то отдушина, — сказал он и добавил: — А вообще-то когда со мной не хотят спорить как с ученым, обычно говорят: «ну зачем спорить с поэтом». Но здесь, думаю, Гумилев сын был все же несправедлив к самому себе. Гораздо более объективную оценку его творчества дал известный литературовед В. В. Кожинов, который считал, что «Лев Николаевич был в равной мере и историком, и поэтом» 1170 1170 См.: «Наш современник», 1997, №3, с. 193.
.
В тот вечер мы долго говорили о его подготовленных к изданию книгах «Тысячелетие вокруг Каспия», «Древняя Русь и Великая степь», о фундаментальном труде «Деяния монголов», которые Гумилев считал наиболее весомыми и ценными разработками теории этногенеза. Как бы подводя итог этим своим работам, Лев Николаевич сказал: «Знаете, в целом я думаю, что творческий вклад в культуру, сделанный моими родителями, я продолжил в своей области оригинально, неподражательно и очень счастлив, что жизнь моя прошла не бесполезно для нашей советской культуры».
Уверен, что для такой самооценки Л.Н. Гумилев имел все основания, ибо его творчество, его подвиг ученого и мыслителя никогда не ограничивался «чистой наукой». Каждым своим трудом он выходил на простор отечественной культуры, обогащая и одухотворяя ее самобытный характер. И здесь особо следует подчеркнуть, что эту культуру, эту традицию Руси Лев Николаевич понимал широко и объемно, далеко заглядывая в наш сегодняшний день.
В этой связи мне особенно запомнилась одна из наших бесед в начале 1989 года. Просматривая книги по истории России в моей библиотеке, Лев Николаевич обратил внимание на то, что в ней довольно много, как он сказал, «славянофилов и славянофильствующих». «Они были по-своему романтиками, — заметил Гумилев, — превозносили до небес народ-богоносец, но все-таки оказались гораздо последовательнее, чем западники, в подходе к разгадке того, что такое Русь и Россия. А разгадка эта состоит в евразийском характере нашего этноса. Да, мы и Евро-па, и Азия. В силу этого мы самобытны и не похожи на западные народы. Нас же все время пытаются заставить любить Запад, хотя он нас все равно не любил и не любит. А вот с Азией, с Востоком у нас тысячелетние связи и гораздо большее взаимопонимание».
Тогда я впервые услышал от Льва Николаевича оценку идей Г. В. Вернадского, П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого и других пионеров российского евразийства. Он отмечал, что, родившись как протест против унижения и поношения русского народа, идеи евразийства имели и имеют под собой реальную историческую почву. Они дают возможность гораздо полнее и объективнее разобраться в том, откуда есть пошла Русь и русская земля. Причем для Гумилева евразийство имело не только научное, теоретическое значение. Он делал из него ясный. практический вывод, состоящий в том, что нельзя, невозможно правильно решать вопросы жизни России в прошлом и настоящем, абстрагируясь от тех коренных особенностей и закономерностей развития, которые органически присущи нашему этносу. Нарушение этих законов тысячелетней истории грозит самыми тяжелыми последствиями для российских народов.
Вот почему так остро переживал Лев Николаевич те разрушительные процессы, к которым привела горбачевская перестройка. Он самым решительным образом осуждал катящиеся по Советскому Союзу волны сепаратизма и национализма — в Прибалтике и Киргизии, Карабахе и Чечено-Ингушетии, Молдавии и Казахстане. Как рассказывал мне в 1994 году президент Русского географического общества С. Б. Лавров, именно тогда, в разгар войны законов и суверенитетов уже тяжело больной Лев Николаевич обратился к своим коллегам по университету с наказом сделать все от них зависящее для предотвращения развала советского союзного государства. «Скажу вам по секрету, — говорил тогда Гумилев, — если Россия будет спасена, то только через евразийство» 1171 1171 Об этом профессор С. Б. Лавров позднее рассказал в книге «Лев Гумилев: судьба идеи».
.
Сегодня это завещание великого ученого звучит как никогда актуально.
Актуально, во-первых, потому, что после разрушения СССР беловежскими заговоришками возникло и, несмотря ни на что, будет расти движение за восстановление Союза братских государств, и прежде всего России, Белоруссии и Украины. Их суперэтническую близость всегда подчеркивал Л. Н. Гумилев. И если бы нынешние политические лидеры хоть в малой мере знали учение Льва Николаевича, выявленные им закономерности исторического развития России, этот исключительно важный процесс мог идти гораздо быстрее и эффективнее в интересах всех народов, живущих на постсоветском пространстве.
Во-вторых, идеи Гумилева приобретают особую актуальность потому, что продолжаются и нарастают попытки Запада и его оруженосцев в России под флагом ее вхождения в «современную цивилизацию» подчинить русский и другие народы нашей страны чуждой им индивидуалистической рыночной идеологии, разрушить наш жизненный уклад, превратить российскую экономику в сырьевую базу транснациональных монополий. Однополюсный глобализм по американской модели становится все более зримым фактором жизни планеты и отсюда закономерно растет антиглобализм — как ответ сопротивляющихся этому насилию этносов. Вот почему сегодня так современно звучит предупреждение Гумилева: «Конечно, можно попытаться «войти в круг цивилизованных народов», то есть в чужой суперэтнос, но, к сожалению, ничто не дается даром. Надо осознавать, что ценой интеграции России с Западной Европой в любом случае будет полный отказ от отечественных традиций и последующая ассимиляция».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: