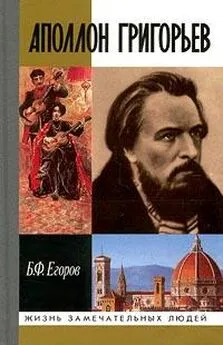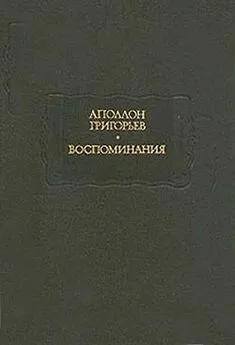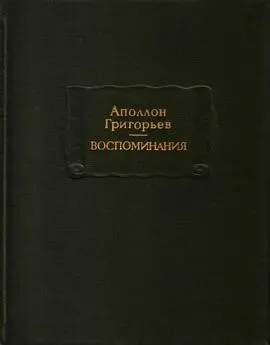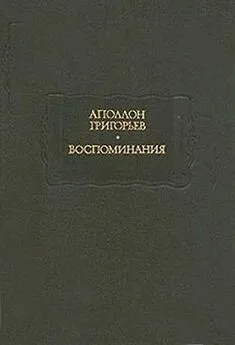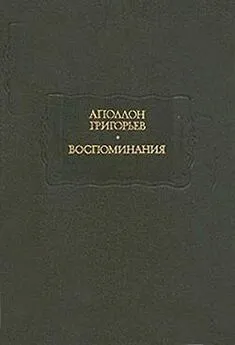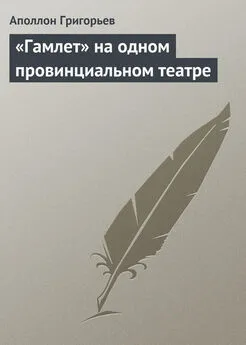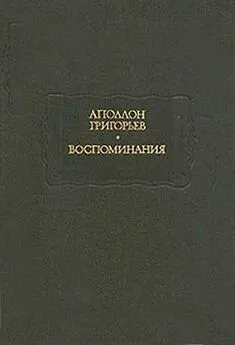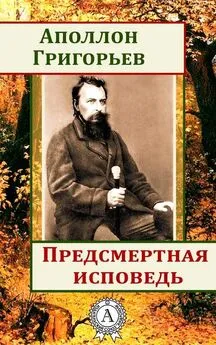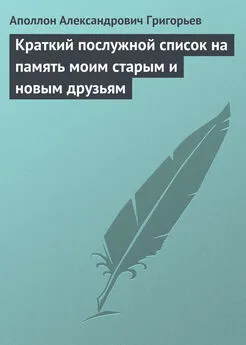Борис Егоров - Аполлон Григорьев
- Название:Аполлон Григорьев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая Гвардия
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02323-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Егоров - Аполлон Григорьев краткое содержание
В книге известного литературоведа и историка Б.Ф.Егорова впервые для широкого читателя подробно и популярно раскрывается жизненный путь одного из сложнейших деятелей русской культуры Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864), замечательного поэта, прозаика, литературного и театрального критика, публициста. Широко известный лишь своими `цыганскими` песнями (`О, говори хоть ты со мной...` и `Две гитары, зазвенев...`), он был еще выдающимся критиком середины XIX века (Тургенев сравнивал его с Белинским), автором интереснейших воспоминаний, талантливым очеркистом. Человек неуемных страстей, он не знал меры в любви, в дружбе, в алкоголе, часто впадал в идеологические крайности (был масоном, революционером, консерватором, славянофилом, `почвенником`), честно потом отказывался от `экстремизма`. По противоречиям жизни и творчества Григорьев может сравниться с Н.С.Лесковым и В.В.Розановым.
Аполлон Григорьев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В тебе самой есть семя разрушенья —
Я за тебя дрожу, о призрак мой,
Прозрачное и юное виденье;
И страшен мне твой спутник, мрак немой;
О, как могла ты, светлая, сродниться
С зловещею, тебя объявшей тьмой?
В ней хаос разрушительный таится.
Написанное дантовскими терцинами, это стихотворение – одно из самых значительных и глубоких в наследии Григорьева. На новом жизненном витке поэт как бы развил и подытожил идеи «Кометы», всей группы стихотворений сороковых годов, связанных с любовью к А. Корш, «визардовского» цикла «Борьба»: темный образ как бы порождает и как бы владеет светлым, он лишь на какой-то миг отделяет от себя «прозрачное и юное виденье», чтобы потом «пожрать» его «в порыве исступленья»; автор стихотворения (или его лирический герой) и дрожит за светлый образ, и в то же время потрясающе смело — ведь речь идет об образе Мадонны! – произносит строку «В тебе самой есть семя разрушенья». Так что на фоне новых впечатлений от картины Мурильо восстанавливаются ореолы старых коллизий (при этом временной миг живописи расширяется до сюжета!), когда «темный» «он» никак не мог соединиться со «светлой» «ею», пока не усматривал в ней тоже «темные» черты. Изломанные утопические мечты юности размыто всплывали теперь во Флоренции.
Клин клином вышибают. Многолетняя сердечная рана от любви к Л.Я. Визард стала немного зарастать, когда пришла новая любовь. Григорьев подружился зимой 1857/58 года с сестрами Мельниковыми, одна из которых, Ольга Александровна, видимо, лечилась на юге от захватившей ее чахотки. Это была интеллигентная петербургская семья; Ольга Александровна — племянница министра путей сообщения П. П. Мельникова.
Григорьев выделял в женских характерах два типа: «собачий» и «кошачий». Первый — отдающий себя, подчиняющийся, рабский; второй — переменчивый, гибкий, ускользающий, иногда способный и царапнуть. Естественно, нашему романтику нравился второй тип. А Ольга Александровна Мельникова, видимо, из всех его знакомых женщин больше всего его напоминала. В начале 1858 года Григорьев записал в ее альбом несколько стихотворений, которые он потом, с приложением других, соединил в цикл и озаглавил «Импровизации странствующего романтика». Второе стихотворение этого цикла подробно раскрывает идеал женщины в представлениях поэта (приводим альбомный вариант, а не позднейшую печатную переделку):
Твои движенья гибкие,
Твои кошачьи ласки,
То гневом, то улыбкою
Сверкающие глазки…
То лень в тебе небрежная,
То — прыг! поди лови!
И дышит речь мятежная
Всей жаждою любви.
…………………………….
Готов я все мучения
Терпеть, как в стары годы,
От гибкого творения
Из кошачьей породы.
Что хочешь делай ты со мной,
Царапай лапкой больно…
Я все у ног твоих с мольбой!
Ты киска — и довольно!
Григорьев привязался к семье Мельниковых, ходил с ними в церковь, засиживался у них вечерами до неприличия, в 11 часов ему приходилось «намекать», что уже поздно. Вряд ли Ольга Александровна отвечала ему глубоким чувством, скорее это было девичье кокетство и симпатия к талантливому литератору. Да и Григорьева вряд ли эта любовь захватила так глубоко, как его предыдущие страсти. Весной Мельниковы уехали в Петербург, а когда полгода спустя и Григорьев оказался в столице, дело ограничилось лишь несколькими визитами к симпатичному семейству.
Новые события, новые встречи быстро выветрили флорентийское увлечение. От него остались светлые воспоминания и ряд прекрасных стихотворений, самое сильное из которых — еще флорентийское, прощальное, когда поэт покидал Флоренцию и думал о дорогом образе. А включил он это стихотворение в альбом О.А. Мельниковой уже зимой, в Петербурге. Любопытно, что он записал его после нескольких строф «Из Мицкевича», как бы в виде продолжения. На самом деле это не оригинальный Мицкевич, Григорьев перевел на русский язык начало переведенной польским поэтом байроновской поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда», где герой прощается с родиной. Почему он сделал перевод с перевода, а не с подлинника, который он прекрасно знал и с которого чуть позднее сам перевел эти строки, — загадка. Может быть, потому, что в 1858 году на Западе праздновалось 60-летие Мицкевича, и Григорьев хотел отметить дату любимого поэта? Неясно. По крайней мере, фон с именем польского эмигранта, тоскующего по родине, усиливает стержневую линию отрывка, включая ее в двойное прощание «приложения», то есть чисто григорьевского стихотворения. Приводим его начальное и конечное (всего их четыре) четверостишия:
Прощай и ты, последняя зорька,
Цветок моей родины милой,
Кого так сладко, кого так горько
Любил я последнею силой…
…………………………………………
Прости-прощай ты, стемнели воды…
Сердце разбито глубоко…
За странным словом, за сном свободы
Плыву я далеко, далеко…
Ольга Александровна Мельникова, слава Богу, излечилась от чахотки, потом, уже после кончины Григорьева, она вышла замуж за старшего сына Ф.И. Тютчева Дмитрия и прожила долгую жизнь (умерла в 1913 году), сохранив два альбома, куда записывались стихотворения нашего поэта.
Все три девушки, в которых был влюблен Григорьев, отвечали ему холодностью, и поэтому у него сложилось представление о типической «рыбьей» сдержанности, закованности русской женщины. В более поздней статье «Искусство и нравственность» (1864) он писал, что героиня тургеневского романа «Накануне» Елена Стахова, смело отдавшаяся Инсарову, — не тип, а исключение: «… исключительная, экзальтированная натура. Целомудренному обществу нашему и пугаться-то нечего было за своих дочек, сестриц и внучек. Не к фанатизму идеи, а скорее к апатии наклонны наши женщины, и ежели удивительные, страстные сцены тургеневского романа шевелили их сердца, так это было им, право, в пользу, а не во вред. Может быть, хоть которая-нибудь из них, сочувствуя увлечению Елены, подумала, что ведь Елена-то в своем романтизме правее многих из наших барышень».
Кроме Мельниковых Григорьев общался во Флоренции еще с несколькими соотечественниками, которые скрашивали его тоску и хандру. Прежде всего это его духовник протоиерей П.П. Травлинский, священник домашней церкви А. Демидова, князя Сан-Донато, видимо, единственной православной церкви во Флоренции. Духовник, соприкасаясь с католическим миром, мучительно размышлял, как включить принцип свободы в православную систему, а Григорьев, соблюдавший тогда все обряды, вплоть до постов (заграница часто усиливает консервативный традиционализм!), и принимавший православие в целом как демократическое, народное, стихийно-историческое начало, в то же время резко отмежевывался от русской «холопствующей, шпионничающей и надувающей церкви», от «верований официальной церкви иже о Христе жандармствующих» (цитата из письма к Погодину от 26 августа 1859 года). Григорьева, видимо, особенно возмущало узаконенное социально-политическое доносительство среди священнослужителей, в том числе нарушение тайны исповеди.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: