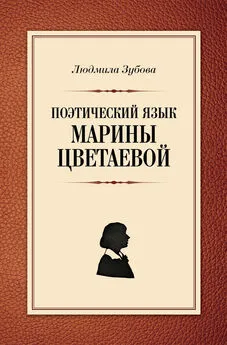Людмила Штерн - Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском
- Название:Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0547-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Штерн - Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском краткое содержание
Людмила Штерн была дружна с юным поэтом Осей Бродским еще в России, где его не печатали, клеймили «паразитом» и «трутнем», судили и сослали как тунеядца, а потом вытолкали в эмиграцию. Она дружила со знаменитым поэтом Иосифом Бродским и на Западе, где он стал лауреатом премии гениев, американским поэтом-лауреатом и лауреатом Нобелевской премии по литературе. Книга Штерн не является литературной биографией Бродского. С большой теплотой она рисует противоречивый, но правдивый образ человека, остававшегося ее другом почти сорок лет. Мемуары Штерн дают портрет поколения российской интеллигенции, которая жила в годы художественных исканий и политических преследований. Хотя эта книга и написана о конкретных людях, она читается как захватывающая повесть. Ее эпизоды, порой смешные, порой печальные, иллюстрированы фотографиями из личного архива автора.
Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На самом деле никто из наших русских друзей не был антисемитом и большинство евреев не были настоящими евреями. И никто из нас не стал бы, если бы родина постоянно, в той или иной форме, нам об этом не напоминала.
Мы выросли в русском языке, русской культуре, русской литературе и русских традициях... Мы обожали русскую природу, русскую зиму и русскую осень, русскую водку, селедку с картошкой и русский «хлеб, что в печь для нас садится». Как написал мне в своем итальянском письме Бродский, «...у русского человека, хотя и еврейца, конечно, склонность полюбить чего-нибудь с первого взгляда на всю жизнь...»
И прежде всего это относилось к России.
Мы с Витей Штерном оба евреи, но относились к своему еврейству совершенно по-разному.
Моя семья представляла собой религиозный калейдоскоп. Мама – атеистка, папа – верующий, лютеранин. Меня с двух лет воспитывала няня Нуля в жестких рамках православия. Каждый вечер я должна была, стоя на коленях, трижды повторить «Отче наш», «Царю небесный, Утешителю» и «Богородице, Дево, радуйся». Я норовила сжулить, ныряла в кровать, когда она выходила из комнаты, и притворялась спящей, когда она возвращалась. Нуля безжалостно срывала с меня одеяло и сгоняла с постели ловким ударом швабры по попе.
В «еврейском» смысле моя судьба сложилась счастливо – я никогда не слышала вослед себе: «Жидовка!» Меня приняли в аспирантуру Ленинградского университета и после защиты оставили работать на кафедре. А в Витиной судьбе еврейство сыграло значительную роль. Отец его, учитель математики, умер от голода в блокаду, в возрасте тридцати пяти лет. Мать и двое сыновей жили, как сейчас принято говорить, за чертой бедности. Мать не могла их прокормить, и после седьмого класса Витя ушел из школы в ремесленное училище. Два года спустя он работал токарем на Кировском заводе.
Представьте себе сутулого еврейского очкарика в роли токаря. Кто его только не бил и где его только не били! Жили они в суровом рабочем районе Автово. Однажды компания соседской шпаны окружила его, когда он возвращался с вечерней смены. Его избили и пырнули ножом. Как в крови дополз до своего подъезда – не помнит... Шрамы на спине до сих пор являются его «особыми приметами»...
Позже он окончил вечернюю школу с золотой медалью, но в университет принят не был. Стоял 1951 год. Следующей весной он поставил крест на своих математических амбициях и поступил в Горный. А когда кончил его первым на всем факультете, то был распределен в Караганду, а не оставлен в Ленинграде. В нашем городе все места достались блатным троечникам.
Много лет спустя Витя с коллегами разработал систему автоматизации алюминиевого производства, за что их группа была представлена к Государственной премии. Не получили. Причина – слишком много еврейских фамилий. Особенно убивался Витин коллега Форсблом, будучи чистокровным финном.
Так что Штерну ни на минуту не давали забыть, что он еврей – второсортная личность...
Иосиф Бродский считал и называл себя евреем . Но ощущал ли он себя евреем? Чувствовал ли свою причастность, или, скорее, принадлежность? Не думаю... Уже в юности он видел себя «гражданином мира».
Бродский существовал в русской и европейской культуре, восхищался англоязычной поэзией и был очарован древним и современным Римом.
Недаром он заслужил один из самых нелепых упреков, брошенных ему Солженицыным – упрек в недостаточной «еврейскости».
Были <...> позже «Исаак и Авраам», – но это уже на высоте общечеловеческой [9].
И здесь, мне кажется, уместно вспомнить знаменитое стихотворение Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Последние его строки звучат так: «Но пока мне рот не забили глиной / из него раздаваться будет лишь благодарность».
Эти слова перекликаются со словами ежеутренней еврейской молитвы: «Пока душа во мне, благодарю Тебя, мой Бог, за то, что вложил в меня Свою душу. Душа чиста, и пока она в теле моем, буду благодарить Тебя, владыка всех творений».
Глава ХV
ШМАКОВ
Геннадий Григорьевич Шмаков, а для нас – Генка, Геннастый, Геннусик – был очень близким другом Бродского. Иосиф называл его «Почти my alter ego» и «My personal university».
Шмаков был одним из самых образованных и рафинированных людей нашего поколения. Он знал восемь языков: включая латынь и греческий, свободно владел английским, немецким, французским, испанским, итальянским и новогреческим. Он, как мало кто, знал русскую и мировую поэзию и блистательно переводил и античных, и современных авторов, в том числе Байрона, Поля Верлена, Жана Кокто, португальца Фернанду Песоа, знаменитых испанцев – Рафаэля Альберти и Гарсиа Лорку. Его переводы Кавафиса Бродский считал непревзойденными.
Шмаков был тонким знатоком искусств: и мирового кинематографа, и оперы, и, в особенности, балета.
Одна романтичная поклонница называла Шмакова «волшебным сосудом, хранящим алмазные россыпи знаний».
Бродский говорил, что Гена представлял собой «буквальное воплощение культуры» и был «главным его университетом».
На даримых Гене книжках Иосиф всегда писал смешные и трогательные автографы:
Читатель виршей этих частый,
Прими, мой дорогой Геннастый,
Их, собранными в скромный томик.
И я когда-то строил домик,
Рыл землю, жаждал шансов быта,
Взгляни – здесь двадцать лет убито.
Но не только автографами баловал Шмакова Иосиф Бродский. Ему посвящены «Венецианские строфы (2)».
Кладезь знаний, Геннастый был человеком обаятельным, веселым, легкомысленным, остроумным, беспечным, добрым и щедрым. Слово «зависть» не было знакомо ему ни на одном языке.
Он обожал нарядные тряпки, застолья, был непревзойденным кулинаром и клялся, что он мастер спорта по фигурному катанью. Впрочем, за четверть века нашей дружбы на коньках я его не видела ни разу.
А мне Гена Шмаков стал больше чем братом, которого у меня никогда не было. Он стал моим самым дорогим и преданным другом на свете.
Мы познакомились на набережной Невы возле университета. Я выходила из двора знаменитых Двенадцати коллегий. На тротуаре черными мазками на белом снегу блестят катки. Я разбежалась, собираясь лихо прокатиться, и въехала в объятия двух молодых людей. Один из них, в сером пальто с поднятым воротником и сдвинутой на глаза кепке, оказался Осей Бродским, другой, усатый, в замшевой дубле и длинноухой меховой шапке, мне был неведом.
– Привет. Не видишь, куда едешь? – сказал Иосиф, – Познакомься, это Гена Шмаков.
Мы обменялись рукопожатиями, потоптались на месте, и я спросила, кому из них со мной по дороге.
– Мне уже пора, – сказал Бродский, – посадите меня на автобус.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
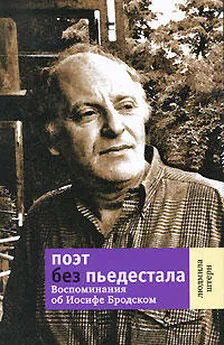


![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/361030/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b.webp)



![Людмила Фойгт - Женщины Кузнецкстроя [Воспоминания. Документы. Фотографии]](/books/1092295/lyudmila-fojgt-zhenchiny-kuzneckstroya-vospominaniya.webp)