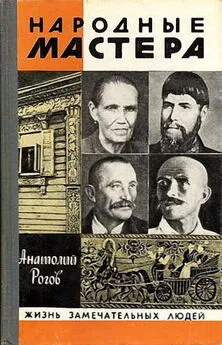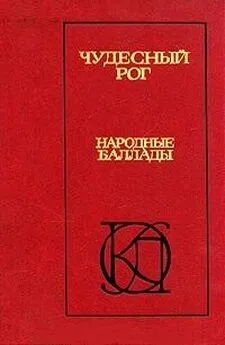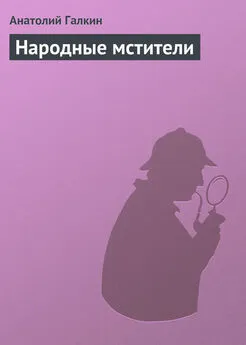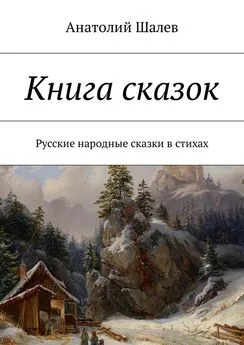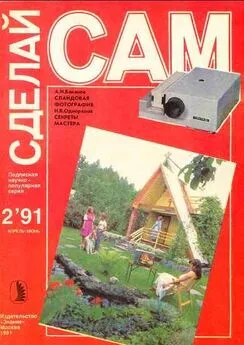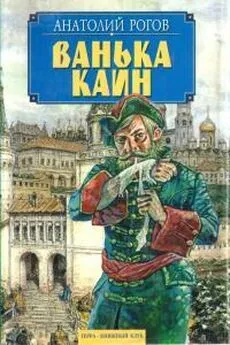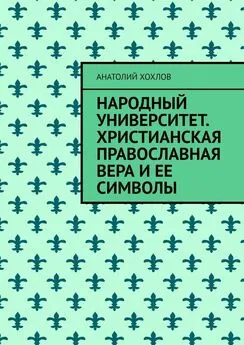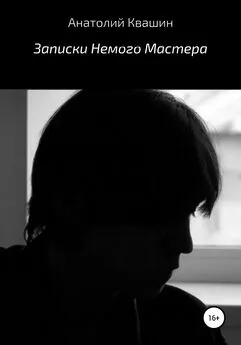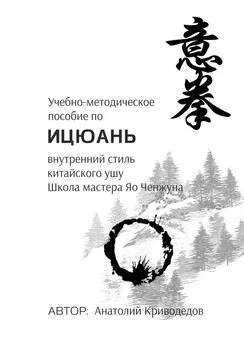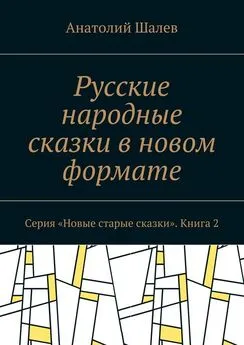Анатолий Рогов - Народные мастера
- Название:Народные мастера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Молодая гвардия»
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Рогов - Народные мастера краткое содержание
Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.
Народные мастера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В цвете все это тоже подчеркнуто; палитра, как всегда у Голикова, полнозвучная, богатая, а смотрится вещь очень цельно, потому что красные (опять же, как всегда у Голикова) все остальные цвета за собой ведут. В «Тройке с волками» у него все три распластанных коня огненно-красные с красными развевающимися гривами, а вокруг еще красные детали в одежде, в санях, красные подпалины и кровь на волчьих боках — все тоже как будто несется и крутится.
А в фантастически нарядных саночках-ладье его первой тройки красных коней, несущейся мимо легоньких, невиданных хрустальных деревьев и кустов — понимай, заиндевелых, — сидел молодой красноармеец в синем шлеме со звездой, и седобородый возница в желто-золотистом армяке, обернувшись, что-то рассказывал ему.
С годами темы его произведений становились все обобщенней и поэтичней: помимо «Битв» и «Троек», еще просто «Танцы», просто «Сельскохозяйственные работы», «Охоты», «Музыканты», «Гулянки»… В таких картинах образы можно было тоже делать предельно обобщенными и внутренней динамикой доводить все до высшего эмоционального накала.
Чисто внешне это иногда еще напоминало древнерусские письма, особенно богатейшим узорочьем, но по сути своей даже в тогдашнем многоликом Палехе это была уже совершенно неведомая живопись, ибо Голиков ушел в ней от иконописи дальше всех. Традиционными оставались, по существу, только образный строй да технология и приемы письма. А он продолжал обновлять и эти средства, приспосабливая их для того, для чего они, по всеобщему мнению, вроде бы меньше всего годились: наполнял все порывом, страстью, романтикой. Высокой романтикой, где правда переплеталась со сказкой.
Такой живописи Россия еще не знала.
Только у Виктора Васнецова такая же, как у Голикова, сказочность и эпичность. Но каким же обыкновенным, каким заземленным кажется нам сегодня живописный язык, которым Васнецов рассказывает свои сказки. Нет, это не порицание, можно, наверное, рассказывать и так, тем более когда делаешь это первым, по существу, торишь путь новому жанру в искусстве. Можно… вот ведь Врубель-то достиг большего, поняв, что если уводишь человека в страну мечты, то она во всем должна быть особенной, эта страна.
Не случайно, наверное, и у Горького «Песня о Соколе» вылилась именно в песню. И «Песня о Буревестнике».
Великолепно понимал это и Голиков.
Конечно, картины Ивана Ивановича очень специфичны; насквозь условны, насквозь декоративны, подавляющая их часть мала по размерам, хотя есть у него и большие работы, а их самоцветная, горящая драгоценными переливами живопись сама по себе и тяжкий труд, и любую битву превращает в несказанную красоту. Пока к этому не привыкнешь, пока не перестанешь замечать внешней драгоценности предметов — глубину палехской живописи не постигнешь. Но вы попробуйте вглядеться хоть однажды в голиковские картины подольше, и они откроются вам. Откроется целый невиданный дотоле мир, в котором все бесконечно красиво и радостно и в котором удивительно много жизненной правды и поэзии. И главное — вы необычайно ярко почувствуете то время, когда были написаны все эти тройки, гулянки и битвы. Почувствуете характер этого времени, его стремительность и напряжение, его краснозвездную романтику и устремленность в прекрасную будущую жизнь.
К десятилетию Октября Голиков первым среди палешан написал Владимира Ильича Ленина. Написал в миниатюре на письменном приборе, подаренном Горькому. Ильич выступает перед рабочими на заводском дворе — фигура его полна динамики и экспрессии. А на других предметах здесь грозные лавины восставшего народа, схватки гражданской войны, мирный труд и союз рабочих и крестьян.
И «Третий Интернационал» изобразил, да как неожиданно, как впечатляюще! На декоративной тарелке, на фоне красной звезды, русские — рабочий, крестьянин и красноармеец — в страстном и мощном порыве протянули руки трудящимся других стран.
Здесь, несомненно, сказался опыт Голикова — плакатиста и декоратора. И не только художественный опыт, но и политический.
15
В 1932 году артель получила большой заказ Дома Красной Армии написать миниатюры и панно на темы гражданской войны, Красной гвардии и партизанского движения. Ивану Ивановичу достались «Двенадцать» Блока — двенадцать миниатюр по мотивам поэмы. Но предварительно надо было нарисовать и отослать в Москву на утверждение эскизы карандашом или пером.
Голиков делал это первый раз в жизни и страшно возмущался:
— Да разве пером выразишь то, что можно выразить красками!..
Без конца читал вслух поэму.
Приехавшего Вихрева, не дав ему поздороваться, усадил рядом и попросил почитать седьмую главу. Тот великолепно читал стихи.
— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?..
Голиков улыбнулся, подергал усы:
Только ночь с ней провозжался,
Сам наутро бабой стал…
— Похоже, а? Тот же мотив, а эпоха другая… Стенька Разин превратился в красногвардейца. Персидская княжна — в Катьку… По-песенному и решаю, как «Из-за острова на стрежень…». Глядите!..
Работа ладилась. А случался затор, Иван Иванович ложился на голый пол и, ни на кого и ни на что не обращая внимания, смотрел в потолок, на узоры широких золотистых сосновых досок. Через полчаса вскакивал, как обновленный, и опять работал…
Приехал Бакушинский. Устроил очередной творческий семинар.
В мастерской курили. Голиков тоже курил. За окнами собирался дождь. Сизо-черное небо было похоже на закипавший котел, сделалось душно, табачный дым не уходил, пощипывал глаза. В глубине улицы пронзительный бабий голос монотонно кликал не то козу, не то девчонку:
— Фе-еня!.. Фе-еня!..
Московский гость беспрестанно вытирал платком взмокшую лысину.
— Тут, несомненно, влияние цветовых вкусов эпохи модерн с ее приглушенной линялой гаммой, с ее эстетическим изломом в понимании формы…
«И он к «Хороводу» прицепился». — Голиков вздохнул.
Панно «Хоровод» он написал два года назад для выставочного павильона в Нижнем Новгороде.
«Уж сколько времени-то прошло, я и забыл о нем… И потом чего говорить-то, его надо было там смотреть. Панно ведь целых три метра. Мы такие никогда я не писали. И краски клеевые, на холсте… Хотелось ведь, чтобы глаз притягивало, чтобы красивое цветовое пятно в зале появилось. Для этого и взял необычные красно-лиловые и синие с бликами света и золота. И линии для этого же ломал… Там надо было смотреть… Хотя можно, конечно, и все по-иному…».
Что-то Иван Иванович прослушал. Даже вздрогнул, когда Бакушинский вдруг очень громко и резко сказал:
— Да, Голиков, Вакуров, Дыдыкин слишком увлеклись романтизмом, увлеклись эмоциональностью, экспрессией, изображением движения. Все дальше уходят от стильности, заключенной в реализме поздних верхневолжских, иначе — ярославских, писем. Только Баканов их и держится. Он — живой и исключительный носитель традиции, подлинный стилист реалистического описательно-повествовательного направления, которое с полным основанием можно считать пусть более наивным и примитивным, но вместе с тем и куда более свежим, новым крестьянским искусством…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: