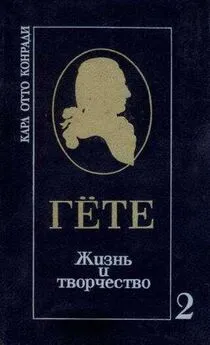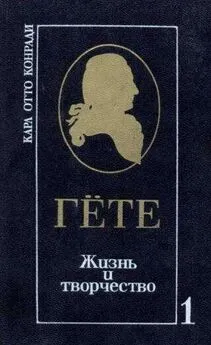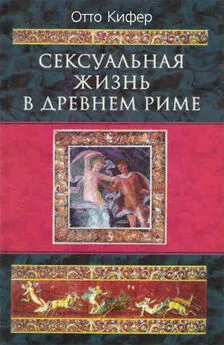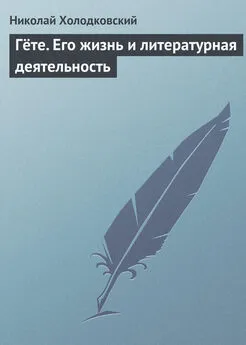Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
- Название:Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни краткое содержание
Во втором томе монографии «Гёте. Жизнь и творчество» известный западногерманский литературовед Карл Отто Конради прослеживает жизненный и творческий путь великого классика от событий Французской революции 1789–1794 гг. и до смерти писателя. Автор обстоятельно интерпретирует не только самые известные произведения Гёте, но и менее значительные, что позволяет ему глубже осветить художественную эволюцию крупнейшего немецкого поэта.
Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На группе Лаокоона Гёте подробно разъяснял, как в этой скульптуре соблюдены все условия, которые он предварительно набросал, и почему выбранный здесь момент в изображении троянского жреца Посейдона и его сыновей со змеями следует признать в высшей степени удачным с точки зрения осуществления принципа красоты. В соответствии со своими взглядами на искусство в этот период Гёте предлагает в эссе «О Лаокооне» анализ и собственное истолкование одного из «величайших произведений искусства». В этом смысле данный анализ остается показательным для Гёте-дилетанта. Эссе Гёте, как могло бы показать специальное искусствоведческое исследование, было ответом (хотя автор и не заявлял об этом прямо) Алоису Хирту, который в своей статье, помещенной в 1797 году в «Орах», оспаривал утверждение Винкельмана и Лессинга, согласно которому в Лаокооне проявляется «благородная простота и спокойное величие», и пытался доказать, что эта скульптура не отвечает идеалу красоты, а скорее выражает характерное. Своими статьями Гёте и Хирт, историк искусства из Берлина, вступили в давнишнюю дискуссию о знаменитой скульптурной группе, созданной около 50 года до н. э. мастерами из Родоса и найденной в 1506 году в римских термах императора Тита. Знаменитыми словами Винкельмана о «спокойном величии» — но отнюдь не бесстрастном — начинается его разбор именно этой скульптуры: «Общей и главной отличительной чертой греческих шедевров является, наконец, благородная простота и спокойное величие как в позе, так и в выражении. Подобно тому как морская глубина вечно спокойна, как бы ни бушевала поверхность, так и выражение в греческих фигурах обнаруживает, несмотря на все страсти, великую и уравновешенную душу. Душа эта отражается на лице Лаокоона, и не на одном только лице, несмотря на жесточайшие страдания» [41] История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 2. М., 1964, с. 477.
(«Мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре», 1755).
Он не поднимает «ужасного вопля», замечает далее Винкельман, «как это поет Вергилий в своем Лаокооне». Лессинг, анализируя скульптурную группу (1767), выразил несогласие с его оценкой римского поэта и, устанавливая границы между изобразительными искусствами и поэзией, настаивал на принципиально разных способах изображения в них одного и того же предмета. Алоис Хирт в свою очередь утверждал, что страдающий не кричит потому, что в этой смертельной схватке он попросту не был в состоянии кричать. Гёте видел копию скульптуры в Мангеймском зале антиков в 1769 году и уже тогда внес для себя ясность в знаменитый вопрос, почему Лаокоон изображен не кричащим, а стонущим: «Он не мог кричать». А позднее в статье «О Лаокооне» он, не останавливаясь специально на этом вопросе, подтверждал свою мысль: именно в этот наиболее удачно выбранный момент, не момент смертельной схватки, но перехода от одного состояния в другое — в момент «стремительности и порыва, действенности и страдания, напряжения и покорности» (10, 52) — он не мог кричать.
На группе Лаокоон Гёте подробно разъяснял, в чем состоит преимущество выбранного здесь предмета и почему представляется удачным момент, в который он изображен. Гёте, как и Шиллера и Генриха Мейера, особенно занимал вопрос, какие предметы наиболее достойны изобразительного искусства. Вопрос решался не просто. 15 сентября 1797 года Шиллер писал в Штефу, где Гёте и Мейер размышляли над предметами искусства: «Превосходно было бы, если бы Вы совместно с Мейером развили Ваши мысли о выборе сюжетов для поэтического и пластического изображения» (Переписка, 330). Сюжет «Германа и Доротеи» оба находили в высшей степени удачным. Но как можно было избежать ошибочного выбора, как найти выгодный для изображения предмет? Этот вопрос Гёте и Шиллер неизменно обсуждали при встречах и в письмах; показательным в этом отношении представляется особенно интенсивный обмен мнениями и замечаниями по поводу сюжета о Валленштейне и разработки его. Когда Гёте писал свою раннюю заметку «По Фальконе и касательно Фальконе» («Из записной книжки Гёте», 1775), ему еще казалось, что художнику ничто не препятствует в выборе предметов: «Глаз художника находит их везде: в мастерской башмачника и в хлеву, смотрит ли он на лицо своей возлюбленной, на собственные сапоги или на античные статуи — везде он замечает эти чудесные изменения и тончайшие нюансы, связующие все в природе». И все-таки в конце он задается вопросом: «Насколько много предметов ты в состоянии так воспринять, чтобы быть способным сотворить их заново?» После неудачных попыток сделаться художником Гёте особенно интенсивно размышлял о том, какие предметы и для каких видов искусства наиболее пригодны и наоборот. И как это часто бывает, он, не решив окончательно этот вопрос для самого себя, уже давал советы касательно художественного метода и выбора сюжетов художнику Фридриху Мюллеру (письмо от 21 июня 1781 г.): «Ограниченный, но человечески значительный, с небольшим количеством персонажей, состоящих в самых разнообразных связях и отношениях». (Нечто подобное пришлось услышать Гёльдерлину во Франкфурте.)
Еще в Италии Гёте обратил внимание на то, что древние придерживались ограниченного круга предметов; выбор сюжета становится затем серьезной проблемой, над которой поэт не перестает размышлять — по крайней мере теоретически и применительно к пластическим искусствам. Но предметный отбор, важный сам по себе, должен совершаться с учетом возможностей материала, его особенностей и требований, которые он предъявляет, это Гёте уже отчетливо понимал, когда писал заметки «Зодчество» и «Материал изобразительного искусства» (опубликованы в «Тойчер Меркур» в 1788–1789 годах). То же относилось и к поэзии; так, Шиллер в письме от 15 сентября 1797 года, вспоминая об идеальном случае с «Германом и Доротеей», указывал, «что определение предмета должно всякий раз совершаться при помощи средств, свойственных данному роду искусства» (Переписка, 330). Следовательно, нужно было выработать также ясное представление о поэтических жанрах. Так обозначился широкий круг задач; тем не менее ни Гёте, ни Шиллер не создали специальной обобщающей поэтики. Статья «Об эпической и драматической поэзии», плод их совместных теоретических раздумий, хотя и содержит важные обобщения, носит очерковый характер, а размышления о трагедии были обменом мыслями в чисто рабочем порядке, отнюдь не предварительными этюдами, которые могли бы в дальнейшем вылиться в связное изложение общетеоретических взглядов в форме трактата о поэзии. Собственно, старания найти и сформулировать законы жанров в любом случае шли вразрез с временем. С тех пор как нормативная, выдвигавшая правила поэтика примерно в 1770 году обнаружила свою несостоятельность в свете принципов исторического подхода, признававшего за историческими явлениями их собственное право, всякие попытки обосновать пригодные для всех времен законы искусства и жанров и требовать их признания были обречены на провал. То, что они свидетельствовали о неуверенности в собственном положении и были естественным стремлением противопоставить текущему и преходящему нечто постоянное, это очевидно. В сетованиях Гёте, что «все мы, современные поэты», испытываем мучения при «выборе предметов», сказывалось ощущение скудости эпохи, когда человек не был больше окружен космосом истинных ценностей, который наглядно выступал в чувственных мифологических сюжетах и образах. Христианские мифологемы были чужды ему (самое большее, что он мог, — это использовать их в качестве символических образов), ибо он не принимал провозглашаемые в них и выдаваемые за откровение истины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: