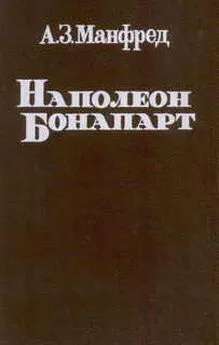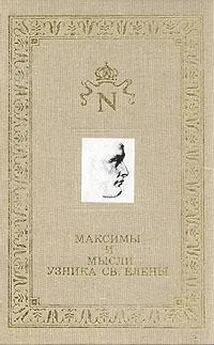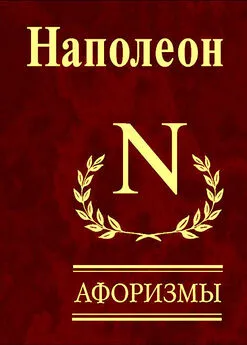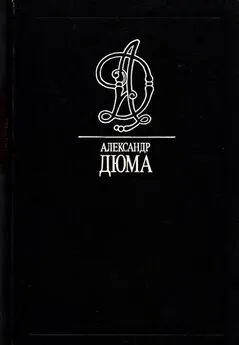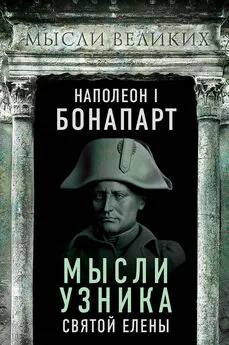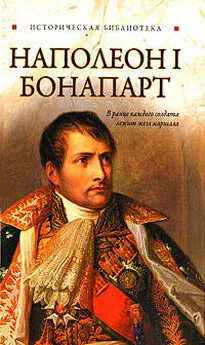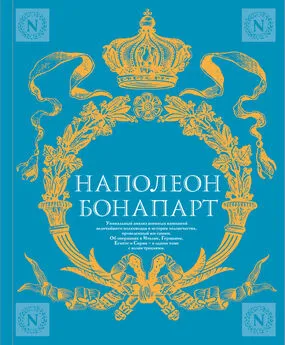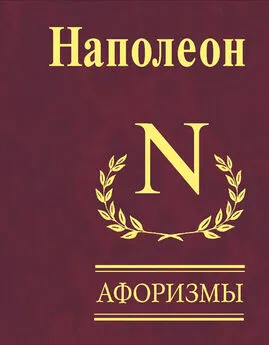Альберт Манфред - Наполеон Бонапарт
- Название:Наполеон Бонапарт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алашара
- Год:1989
- Город:Сухуми
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберт Манфред - Наполеон Бонапарт краткое содержание
Книга доктора исторических наук А. 3. Манфреда — это политическая биография французского буржуазного государственного деятеля и полководца Наполеона Бонапарта. Опираясь на обширный, во многом малоизвестный документальный материал, автор рассказывает об основных событиях и фактах того времени, об окружении Наполеона, о секретах его триумфов и причинах поражений.
Печатается по изданию: А. 3. Манфред. Наполеон Бонапарт. Четвертое издание. — Москва: издательство «Мысль», 1986 г.
Наполеон Бонапарт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Справедливости ради надо сказать, что Витгенштейн и Шварценберг испытывали не только трудности психологического порядка, сражаясь с таким противником, как Наполеон, но и иные. Со времени разгрома наполеоновской армии в России и перенесения военных действий в Центральную Европу в ставку главнокомандующего в ожидании золотых лучей победной славы зачастили августейшие персоны. Александр I, великий князь Константин, Фридрих-Вильгельм III, Франц I вспомнили про свой воинский долг: ведь все они были военные и без их советов, без их указаний вряд ли удастся обеспечить путь к победе. Вместе с монархами в главную ставку прибыли их адъютанты, генералы, великосветская дворцовая челядь. Походная простота кутузовской ставки была забыта. Главная ставка союзников лета 1813 года напоминала скорее придворный салон, где хлынувшие из всех европейских столиц штабные охотники за орденами и чинами соперничали в искусстве лести и искусстве интриг.
Наполеон, конечно, знал о том, что происходило в стане противника, и это лишь усиливало его презрение к врагу. Александра, Фридриха-Вильгельма, Витгенштейна, Шварценберга он не считал — ив этом он был, разумеется, прав — достойными противниками. Он привносил в свои оценки, в свои политические решения личные мотивы. Странным образом, при своем огромном жизненном опыте, он сохранял до последней минуты труднообъяснимые иллюзии в отношении Австрии. Он считал невозможным, чтобы его тесть, его союзник, отец его жены — император Франц повернул против него оружие; в своих расчетах он продолжал числить Австрию союзницей Франции. Когда казавшееся ему немыслимым совершилось — в Рейхенбахе всех обманывавший Меттерних хладнокровно подписал договор о вступлении Австрии в антифранцузскую коалицию, — ярость Наполеона против «вероломных обманщиков» была беспредельна. Ему не терпелось как можно скорее проучить кичащихся тысячелетним троном лжецов, клятвопреступников из Шёнбруннского дворца. Но в политике, как и в военном деле, чувства личной обиды — плохой советчик! Наполеон как полководец сам знал, насколько важно трезво оценить силы противника, как опасно преуменьшать его возможности, не принимать в расчет его резервы.
Величайшим стратегическим просчетом Наполеона, просчетом, имевшим катастрофические последствия для империи, для его судьбы, была недооценка им в 1812 году сил русской армии, русского народа, недооценка силы России.
В кампании 1813 года он расплачивался за этот главный стратегический просчет 1812 года; все происходящее в 1813-м было лишь следствием предыдущей главной ошибки.
Но в трагическом ослеплении Наполеон и в 1813 году продолжал совершать те же ошибки: он снова недооценивал противостоящие ему силы. После Люцена, Бауцена, Дрездена, после трех побед, одержанных подряд, он вновь уверовал в свою счастливую звезду, в свое военное превосходство. Математик, он непостижимым образом разучился правильно считать: в его расчетах силы противника были явно приуменьшены. Он неверно оценивал и боевые качества армий, с которыми ему приходилось сражаться. Конечно, Витгенштейн или Шварценберг как полководцы немногого стоили. Он не хотел задумываться над тем, что последствия, военный эффект Бауцена или Дрездена были совсем иными, чем Аустерлица или Иены. Тогда, в 1805–1806 годах, победа в генеральном сражении сокрушала армию противника, она предрешала исход кампании. Теперь, в 1813 году, проигранное сражение лишь ожесточало противника, армии отступали в полном порядке, чтобы через короткое время снова ввязаться в бой. Армии, регулярные войска, сражавшиеся с Наполеоном, стали иными. Они не только обрели боевой опыт и научились побеждать, гнать и уничтожать французские полки, как это было в 1812 году, они и в моральном отношении превосходили солдат наполеоновской армии, ибо они дрались за независимость своей родины, против завоевателей. Наполеон не видел, не хотел видеть эти очевидные каждому изменения.
Он никогда не говорил о страшном 12-м годе; он его хотел вычеркнуть из памяти; всякое напоминание о нем приводило его в бешенство; его не было, ничего не было; началась иная кампания — кампания 13-го года, и только о ней должна идти речь. Но то было суеверное, почти дикарское самоослепление: ведь освободительная война 1813 года была продолжением и следствием Отечественной войны 1812 года. Разгром наполеоновской армии в России привел к восстанию европейских народов против наполеоновской тирании. Россия и в 1813 году продолжала играть ту же ведущую роль; не случайно Пушкин, первый русский историк того времени, считал вершиной русской славы не 1812 й, не 1814-й, а именно 1813 год [1190] Пушкин в 1836 году писал: «Кутузов… вознес Россию на ту степень, на которой она явилась в 1813 году» (А. С. Пушкин. Полн, собр. соч., т. XII, стр. 134). *** Corr., t. 24, 25; Fain. Manuscrit de 1813…, t. I–II.
.
Наполеон в 1813 году надел как бы шоры; он не видел ничего, кроме узко военных, точнее, чисто оперативных вопросов. Перечитайте его приказы, распоряжения, письма 1813 года — это распоряжения командующего, генерала блистательного таланта, но не императора, не государственного деятеля, не политика.
Но ведь в 1813 году именно политика, политические, идейные проблемы стали силой, определявшей ход борьбы. Наполеон не видел, что прусская армия 1813 года совсем не похожа на армию, сражавшуюся при Иене, которую он ставил невысоко. Не только реформы Шарнгорста и Гнейзенау, порожденные той же волей к национальному возрождению, но и моральная поддержка, соучастие всего германского народа, поднявшегося на освободительную войну, делали эту армию непобеждаемой. Победы, даже самые триумфальные, если бы они были, не могли спасти обреченный режим наполеоновской империи, поработившей народы Европы. Наступил час возмездия. Его противники — самодержавные главы европейских монархий, убедившись, что император французов не желает идти на уступки, пустили в ход самое опасное оружие. Калишский манифест 25 марта 1813 года призывал народы сражаться за свободу и независимость. Прусский король, лукавивший и обманывавший обе стороны, почувствовав, что военное счастье на стороне огромных сил коалиции, также заговорил о свободе. В лживых устах коронованных властителей феодально-абсолютистских монархий речи о свободе были сплошным лицемерием; они задумывались уже над созданием священного союза монархов против народа. Но в 1813 году, в атмосфере огромного патриотического подъема освободительной войны, слова о свободе обладали магическим действием; слова обмана были приняты за чистую монету. По всей Европе все выше вздымались волны народного гнева; французская армия была бессильна в противодействии могучей стихии.
В решающем трехдневном сражении под Лейпцигом (16–18 октября 1813 года) — знаменитой «битве народов» — армия Наполеона была разбита. Теперь вся Германия восстала против завоевателей. Баварцы, саксонцы, баденцы, которых Наполеон расценивал как своих самых надежных союзников, повернули оружие против французов; они чувствовали себя в большей мере немцами, чем подданными облагодетельствованных Наполеоном монархов [1191] «Освободительная война 1813 г. против наполеоновского господства». М„1965; «Das Jahr 1813…», hrag. V. Н. Scheel. Berlin, 1963.
.
Интервал:
Закладка: