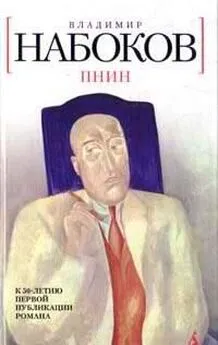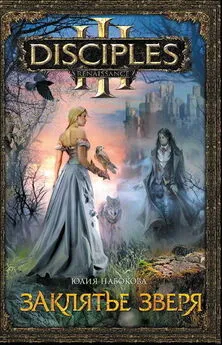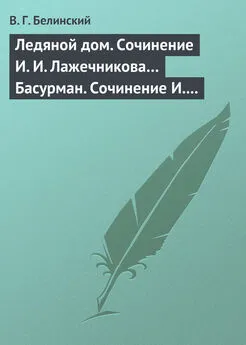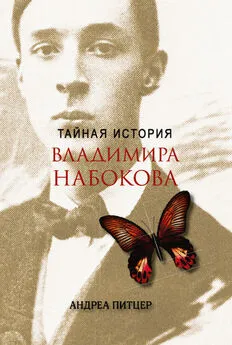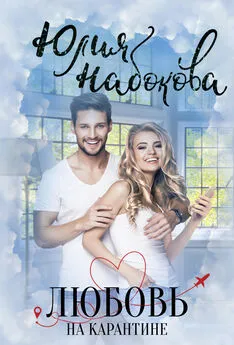Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
- Название:Сочинение Набокова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-160-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова краткое содержание
В книге профессора Геннадия Барабтарло, лучшего переводчика сочинений В. В. Набокова на русский язык, ставится задача описания их в совокупности — как главы одного целого, исследуются не только «оснащение словесной выразительности», но и «сила испытующей мысли» этих произведений. В добросовестном стремлении раскрыть метафизическое и нравственное содержание творчества, теорию искусства и философию выдающегося русского писателя XX века Г. А. Барабтарло не знает равных. По словам Омри Ронена, ни одно аннотированное издание Набокова не может обойтись сегодня без обширных ссылок на труды этого филолога.
Сочинение Набокова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другой, и на сей раз необычный, тематический парадокс повести, о котором говорилось вскользь выше, состоит в том, что повторения ее романтической и трагической темы подчеркивают, выделяют и раскрашивают повторения другой, главной темы — «весны в Фиальте» — а не наоборот, как это обыкновенно бывает в изящной словесности. Это именно Нина — неуловимая и вместе с тем доступная, великодушная и вместе равнодушная, ветреная и щемящая — походит на стеклянистую на просвет Фиальту и напоминает о ней при каждом повороте пробега этих двух пульсирующих, параллельных тем — а не наоборот, как можно было бы ожидать. Вот на выбор прекрасный пример этой кажущейся странности:
Сепор пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит: весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность Фиальты если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой.
Мало того, что худенький локоть Нины служит здесь простой инстанцией линейного сопоставления со средою и «сущностью» Фиальты как главного предмета повести, но он даже и не единственная такая инстанция: серебряной обвертке дается не меньший вес в этом любовном воспевании Фиальты. Если и подразумевается здесь, что и Нинина сущность тоже влажная, серая и оранжерейная, то это обстоятельство слишком тонко для слов и лучше оставить его не изъясненным прямо, но намекать на него в разных укромных углах повести. Кроме того, читатель должен заметить, что серебряная бумажка здесь недаром брошена, но указывает на Фердинанда, лошадино- образного мужа Нины, который в предыдущем абзаце посасывает длинный леденец (о леденце «лунного блеска» между прочим сказано, что это была «специальность Фиальты»), Итак, обе эти тонкие подробности окольным путем приводят нас назад, к началу аналогии.
В самом последнем, невероятной лепки предложении набоковского каскадного типа [141] Имеется в виду восходящий к ветхозаветному слог длинного сложносочиненного периода, в котором предложения, не всегда связанные между собой этиологической связью, нанизываются на одну повествовательную нить повторяющимся союзом «и». См.: ЛЛ, 21, и Б-1989, 106–107. Этим приемом пользовался Диккенс. Роберт Альтер в недавней книге изсследует его у американских романистов, которые по его мнению сознательно или инстинктивно обязаны этим слогом классическому переводу Свящ. Писания на английский язык, выполненному британскими профессорами в начале XVII века (Robert Alter. Pen of Iron: American Prose and the King James Bible. Princeton UP, 2010).
(напоминающего этим паратаксическим приемом долгий витой финал «Волшебника»), которое суммирует повесть, приводит и разрешает ее основную тему, тему Фиальты весною, и извещает о смерти Нины, мы узнаем наконец, отчего этот кусочек фольги сверкал: гигроскопическое небо над Фиальтой, мутно-серое в начале повести, все время незаметно наливалось изнутри солнцем, прорвавшимся в последнем предложении наружу, как раз перед самым объявлением об автомобильной катастрофе, причем и Нинин легкое отвращение вызывающий муж, и его престранный спутник остались целы, а вот сама Нина не уцелела.
Короче говоря, это без сомнения любовная история, но только особенного набоковского рода, где любовь к человеку или к месту возводится на высоту небывалого описания, способного увековечить предмет любви, независимо от того одушевлен он или нет. Описание это может быть безмолвным, если его предмет за пределом возможности слова: «…Отрешенье от слова / иль, может быть проще: молчанье любви» («Поэты», 1939). Словесное же выражение этой любви подчиняет себе и выставляет напоказ романтическую тему нашей повести, и в конце концов распоряжается ею. Эту тему можно бы определить сказав, что в правильно и хорошо описанном мире, — в сочиненном на бумаге мире, пытающемся подражать миру хорошо-сотворенному— или, как говорит Джон Шейд, во вселенной «с правильным ритмическим размером», даже трагическая любовь, даже смерть — учтены и разрешены (как диссонанс), либо в плане повествования, либо скорее в иной, высшей плоскости, где радиусы любви, исходя из «нежного личного ядра» художника сливаются в единый луч в некоей немыслимой запредельности.
В первой книге разсказов, «Возвращение Чорба», Набоков расположил два важных разсказа, «Благость» и «Ужас», в конце и в близости друг от друга, почти рядом, поместив между ними «Картофельного эльфа». Первый из них посвящен теме преобладающей любви к человекам, любви, превозмогающей личное несчастье и замазывающей трещины жизни; последний показывает ссаженное, стертое до тканей вещество бытия, лишенное защитного покрытия, подаваемого сочувствием и, более того, сострадание к окружающему, и оттого бытие это кажется буквально неузнаваемым, не имеющим лица. Жизнь в «Ужасе» сама не своя, или, как говорят, на ней лица не было — но личина [142] Подробнее об этом в главе «Ужас и благость».
. Что же до разсказа, помещенного между этими двумя, то он сплетает оба этих смежных тезиса, благость любви и ужас нелюбви, в одну искусную двухчастную композицию.
Все движется любовью, и ею живится искусство Набокова в трехступенчатом своем движении.
Во всяком сочинении, даже в самом коротком разсказе, он пытается схватить и изобразить черты «мира внешнего», движимый неутолимой любовью к вещественной подробности, доступной любому из пяти воспринимательных чувств. Часто он помимо того испытывает «мир внутренний», сокровенную от внешнего взгляда жизнь души, для чего испытуемый человек помещается в крайние или катастрофические положения. При сем любовь к тварному естественному миру, в его непостижном разнообразии и невыразимой красе, внушает и обрамляет сочувствующее (или антипатическое) изображение столь же разнообразного, пульсирующего между благостным и ужасным психологического состояния человеческой твари.
Наконец, во многих сочинениях он предпринимает изследование собственно пределов как внешнего мира, так и внутриположного, и прожектирует свою мысль от границ обоих в воображаемый «мир иной», прекрасно сознавая его абсолютно неодолимое сопротивление всякому предварительному испытанию, даже восхищаясь самой неодолимостию задачи, и однако признавая, что самое желание повторять эти попытки равно непреодолимо. Вот ведь и Дмитрий Синеусов, и Джон Шейд — в разных полушариях, в разные времена — пришли к выводу, что в этом деле самые заблуждения и тупики, если ничего и не приоткрывают, то кое-чем вознаграждают честного частного сыщика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: