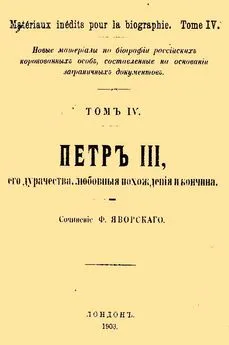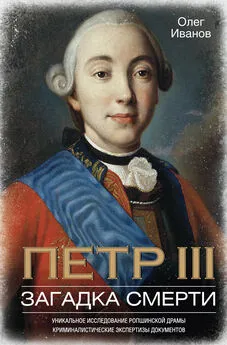Александр Мыльников - Петр III
- Название:Петр III
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02490-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мыльников - Петр III краткое содержание
Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».
Петр III - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во-вторых, манера поведения самого Петра III — манкирование правилами придворной условности, забота о нижестоящих, проявившаяся уже во время командования им Кадетским корпусом, простота в обращении с «простыми» людьми, заинтересованность в разговорах с солдатами, появление в людных местах, на улицах без охраны и т. п. Словом, та самая «непохожесть». Наиболее четко, пожалуй, это было сформулировано в обращении пугачевского полковника И. Н. Грязнова к жителям Челябинска 8 января 1774 года. «Дворянство же, — заявлял бывший симбирский купец, — премногощедрого отца отечества, великого государя Петра Федоровича за то, что он соизволил при вступлении своем на престол о крестьянах указать, чтоб у дворян их не было во владении… изгнали всяким неправедным наведением» [81, с. 271]. Впрочем, мотив вражды дворян к царю был давним. Еще в 1747 году крестьянин Данила Юдин был арестован как автор «возмутительных писем» [191, с. 138], в которых обвинял придворных в намерении «извести великого князя Петра Федоровича» (в этом можно найти переосмысленные по-своему отзвуки конфликтов наследника с Елизаветой Петровной и ее окружением). Во всяком случае, представления о «народолюбии» Петра III были стойкими и проникли к черногорцам и чехам. М. Танович, сподвижник Степана Малого, рассказывал, как русский царь принимал его и пил за здоровье черногорцев. Заметим, что свидетельство Тановича не обязательно было выдумкой. Вспомним, что весной 1762 года в ответ на обращение черногорских митрополитов Саввы и Василия русское правительство предприняло решительный и почти мгновенный демарш в защиту прав черногорцев. Зная это, а также учитывая открытый характер Петра III, надо признать, что его встреча с Тановичем была вполне возможна.
Совокупность подобных фактов или, по крайней мере, слухов о простоте поведения российского императора способствовала его идеализации еще до вступления на престол. По верному наблюдению К. В. Чистова, легенда о цесаревиче-избавителе предшествовала легенде о Петре III как императоре [191, с. 139]. Взаимно напластовавшиеся и переплетавшиеся подлинные черты личности и деятельности Петра Федоровича постепенно обретали в народном сознании некую системную целостность, в проявлении которой неожиданность его свержения и последовавшая борьба в верхах за власть сыграли роль решающего катализатора.
Но на выбор центрального персонажа легенды попутное воздействие оказали и другие факторы, которые в этой связи до сих пор должным образом не учитывались. Один из них — растянувшаяся во времени и пространстве процедура присяги Петру III и неожиданно для населения страны — сменившей его Екатерине II.
Ввиду огромности территории Российской империи, плохих дорог, весьма скромных транспортных скоростей и медлительности бюрократической машины присяга растянулась на несколько месяцев. Так, датированный 12 января 1762 года сенатский указ, которым должны были приводиться к присяге «разных вер люди, кроме пашенных крестьян», в Тобольск поступил только 18 февраля, а из Духовной консистории на места рассылался 27 февраля [14, № 37, л. 2–3 об.]. Еще больше времени требовалось для отсылки рапорта об исполнении в Петербург. Между тем на горизонте маячило 28 июня, о чем никто еще не догадывался. И порой, особенно в местностях, удаленных от центра, складывалась почти что мистическая ситуация. Так, сообщение об указах 16 февраля и 21 марта о секуляризации церковно-монастырских имений и переводе проживавших там крестьян в разряд государственных поступило из столицы в Сибирскую губернскую канцелярию только в середине мая; в конце того же месяца из Тобольской консистории они стали рассылаться дальше, причем предписывалось сбор денег производить не с момента издания указов, а «нынешнего 1762 году со второй половины, то есть с сентября-месяца» [14, № 70, л. 11, 28, 61–62]. На места эти документы поступали медленно: в Томск — 30 июня, в енисейский Спасский монастырь — 16 июля, в других случаях и позже. Вдумаемся в эти даты! Они относились к периоду уже после свержения Петра Федоровича. Здесь об этом пока не знали, именем его продолжали действовать местные власти, на его имя следовали рапорты и челобитные. Вот, скажем, обращение к Петру III крестьян, ранее принадлежавших Троицкому монастырю в Тюмени. Алексей, Дмитрий, Фрол и Никифор Черкаловы, Степан Кулаков, Иван Мурзин, Матвей Высоцких и другие (всего 15 человек), отчаявшись добиться правды на месте, просили, чтобы «всепресветлейший державнейший великий государь император Петр Федорович, самодержавец всероссийский государь всемилостивейший» разрешил им пользоваться монастырскими угодьями. Ибо, подчеркивали крестьяне, «пашенных земель и сенных покосов собственных у нас, рабов ваших, не имелось, а довольствовались сенными покосами от монастыря». И дата— 15 июля 1762 года [5, № 4775]. Эта челобитная, исполненная веры в справедливость монарха, была обращена в никуда: со дня его свержения уже прошло более двух недель и минул двенадцатый день после убийства. Но для значительной части подневольного и неграмотного населения Петр Федорович еще как бы продолжал существовать — манифесты нового царствования продвигались в провинцию медленно. И витал в народных умах крамольный и непозволительный вопрос: так кто же сидит на престоле? Это был еще один психологический штрих создававшейся в народном воображении странного 1762 года картины спасения царя — ему удалось бежать из-под ареста, а вместо него похоронили то ли солдата, то ли восковую куклу. Отзвуки этого сравнительно быстро дошли, как мы помним, и до сербского монастыря на Фрушкой горе.
В разных вариантах об этом толковали уже ранние самозванцы, одновременно сообщавшие о своих странствиях, а иногда и о самом перевороте 1762 года. Но вот еще одна любопытная черта, общая для российского и зарубежного самозванства: чем ближе к этим событиям объявлялся очередной «Петр III», тем менее четкими и детальными оказывались его повествования. Не исключено, что такое впечатление возникает из-за неполноты сохранившихся источников: письменной фиксации такие рассказы, исключая записи в следственных делах, не имели. Но мыслимы и иные объяснения. Скажем, данная тема на первых порах могла либо не вызывать особого интереса у слушателей, либо сами претенденты не были достаточно осведомлены о событиях. Тем более за рубежом. Степан Малый, например, подробно, хотя и противоречиво, сообщая в беседах о своих хождениях по Балканам и другим местам, очень глухо говорил В. Марковичу, что ему удалось в Петербурге избежать ареста и тайно скрыться из России (впрочем, это вполне могло быть деталью и его личной биографии, о которой, к сожалению, нет достоверных данных). Или рассказ о «русском принце». Немецкое слово «verstossener», примененное к нему в гра-децком письме, можно, вслед за Я. Ваврой, перевести как «изгнанный». Однако слово это имеет и другие оттенки: «отвергнутый», «отрекшийся», что в свою очередь позволяло воспринимать «русского принца» как избежавшего ареста ценой отречения, как скрывшегося после свержения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
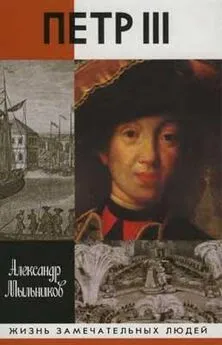

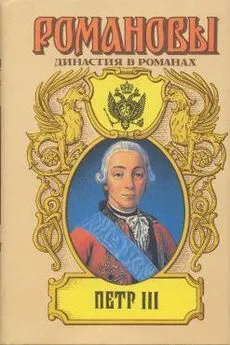
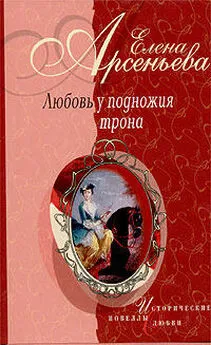
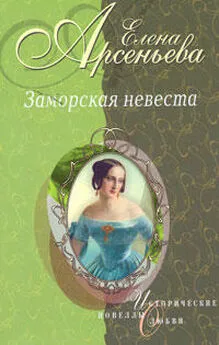
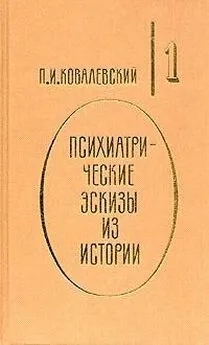
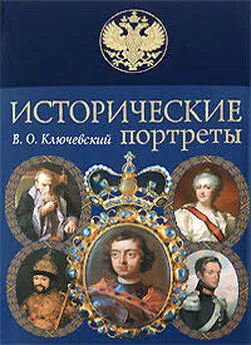

![Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]](/books/1098909/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy.webp)