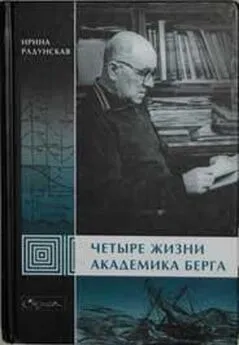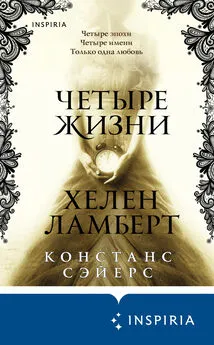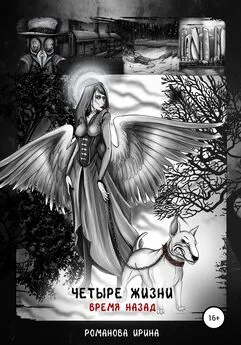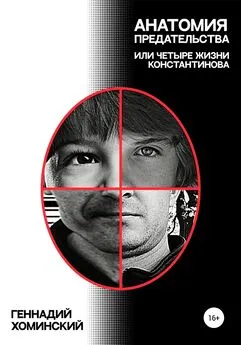Эрвин Полле - Четыре жизни. 2. Доцент
- Название:Четыре жизни. 2. Доцент
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрвин Полле - Четыре жизни. 2. Доцент краткое содержание
Тюмень. Девятилетний бег с препятствиями: отличный старт и нелепый, по мнению коллег, финиш. Частично иллюстрированный вариант.
Четыре жизни. 2. Доцент - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Помимо личной амбиции несколько факторов способствовали научному прорыву:
— никто не мешал работать (сам себе научный руководитель, к тому же ректорат сдерживал закулисные манёвры Магарила);
— относительная самостоятельность (курс СФХМИ создавал и преподавал студентам 4-го курса единолично, здесь же отбирал талантливых и трудолюбивых студентов);
— квалифицированная рабочая сила (дипломники);
— набор современного физико-химического оборудования;
— великолепная, по тем временам в СССР, вычислительная техника.
Последний фактор требует дополнительного пояснения. К концу 60-х появилось много марок простейших настольных вычислительных машин, как отечественных, так и импортных (ГДР, Чехословакия, Болгария). Поступали машины механические, электронные и смешанные. Первые электронные настольные ЭВМ (скажем, типа «Вильнюс») с одной стороны отличались исключительным удобством в работе и быстродействием по сравнению с «Феликсом». С другой стороны, ЭВМ этого типа способны были «не поморщившись» выдавать неверный результат, приходилось регулярно перепроверять результаты на других калькуляторах. Неуверенность в правильности результатов мгновенно отбивает у пользователя охоту к конкретной ЭВМ. Более надёжно (любой сбой в расчётах немедленно вызывал остановку) работали электрические механические машины типа «Sellatron» (ГДР), но они работали шумно, к тому же их ремонт представлял проблему, тогда как у отечественных ЭВМ ремонт состоял в простой замене испорченных блоков. В «надёжности» многообразия калькуляторов конца 60-х и первой половины 70-х годов можно было убедиться, заглянув на склад кафедры технологии нефти и газа ТИИ. Десятки счётных машин, купленных за бешеные, по моему восприятию, деньги, превратились в не нужный хлам, ожидающий нормативного времени списания.
Летом 1972 г. на пляже в Сухуми у меня состоялся интересный разговор с интеллигентным армянином (жена — француженка), приехавшим в гости с Ближнего Востока (боюсь соврать, из Бейрута). Он рассказал, что хозяин их крупной ювелирной фирмы, еврей, не признаёт электронные калькуляторы, пользуется только деревянными счётами, которые ему регулярно привозят из России. Любопытный факт косвенно подтверждает ненадёжную работу электронных калькуляторов первых поколений. Постепенно ситуация изменилась. В середине 70-х комиссионные магазины Советского Союза заполнились импортными карманными калькуляторами, надёжными в работе и сравнительно дешёвыми (100–150 рублей при окладе доцента 280 рублей). К сожалению, отечественная индустрия калькуляторов и персональных компьютеров к концу 70-х полностью и надолго (навсегда?) проиграла конкурентную борьбу за рынок с японскими и американскими производителями.
В Тюмени поставил задачу выйти на «большую» ЭВМ. Прослушал факультативный курс по языкам программирования Алгол и Фортран. Составил программу для ЭВМ «Наири-2», позволяющую методом наименьших квадратов рассчитать уравнение прямой линии по экспериментальным результатам. Для специалистов — примитив, для меня достижение. «Выбил» время работы ЭВМ, в основном ночью. Наладка программы заняла несколько дней. Затем требовалось каждый раз «набивать» на перфокарты экспериментальную информацию. Для моих диссертантов и дипломников возможность обсчитывать результаты на «Наири-2» — счастье. Кстати, эта программа четверть века хранилась в моём письменном столе как память о прошлой научной деятельности, хотя давно уже не функционируют ЭВМ типа «Наири-2». Да и сама аналогичная задача ныне не требует ночных бдений в вычислительном центре, всё быстро решается на персональном компьютере, стоящем на рабочем столе.
Первые годы в ТИИ получал в руководство до 5 дипломников. Дипломник — лучшие руки для эксперимента, если студент трудится в тесном контакте с руководителем, видит интенсивную работу самого руководителя (очень важно!) и реальный интерес к плодам своей деятельности. К сожалению, заинтересованность в экспериментальных результатах зачастую приводила к тому, что времени на подготовку к хорошей защите дипломной работы, теоретическому осмыслению материала у студента практически не оставалось. Поэтому, даже при отличных результатах, оформленных мной в виде статей в специальные журналы, дипломники защищались не лучшим образом, одна даже «уд» получила. Члены ГЭК не понимали сути выполненных работ, что давало повод глубокомысленно рассуждать на учёном совете факультета о высоком научном уровне дипломных работ, но оторванности тем от специальности конкретных студентов. В результате, добиваться выделения очередных дипломников приходилось с боем, подключая ректорат.
Экспериментальные материалы, наработанные дипломниками, становились частью защищённых в Свердловске кандидатских диссертаций (Нина Полле, Валя Нагарёва), в свою очередь, потенциальными главами моей несостоявшейся докторской диссертации. Эксперимент оформлялся в виде научных статей и докладов, которые я старался печатать и излагать в центре (в Тюмени публиковался и выступал на конференциях тоже, но «столица деревень» — значительно более глухая научная периферия, чем Томск, хотя и ближе расположена к Москве).
Эффективность научной работы существенно возрастает, когда автор не просто печатает статьи, но и участвует в дискуссиях, демонстрирует своё видение конкретной проблемы открыто, не боясь выглядеть дураком в кругу себе подобных. В Тюмени оппонентов моему научному направлению не было, активно искал выход на Москву, Ленинград, Прибалтику, Свердловск (позднее). Чувствуя поддержку ректората (не отказывали в поездках, хотя командировочные расходы для ВУЗов — сложность, приходилось ездить и за деньги менделеевского общества) я пять раз вылетал из Тюмени на Всесоюзные совещания по близким мне проблемам. На каждом лично выступал с 1–2 докладами, в т. ч. и на пленарных заседаниях. Среди участников, помимо представителей ВУЗов, сотрудники академических и отраслевых институтов, закрытых «ящиков»…
На крупных научных форумах отчётливо заметен элемент безнравственности в научной среде. Приёмы некоторых участников совещаний: доклад заявлен, включён в повестку, напечатаны тезисы, докладчик на месте, но от выступления уклоняется. Боится критики присутствующих оппонентов. А печатная работа («печработа») в списке научных трудов уклонившегося докладчика зафиксирована. Из хорошо знакомых к этому типу «докладчиков» относится профессор томского университета Г.Л.Рыжова. Но уж если среди присутствующих нет компетентных специалистов по конкретной проблеме, такие докладчики заливаются соловьями. Противно, тем более на симпозиумах не так много людей, желающих слушать «чьи-то бредни» (завышенная самооценка большинства). Как правило, все участники собираются на первое пленарное заседание. В будущей своей работе это неписаное правило я учёл при организации десяти совещаний по проблемам и перспективам Томского нефтехимического комбината. Секционные совещания нередко превращаются в клуб докладчиков, т. е. руководитель секции и 10–15 докладчиков, причём распространено: сделал доклад и ушёл. Говорить желают многие, а вот слушать ( и слышать ) чужую работу мало желающих. Исключение — доклады общепризнанных корифеев, а они, как правило, выступают на пленарных заседаниях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: