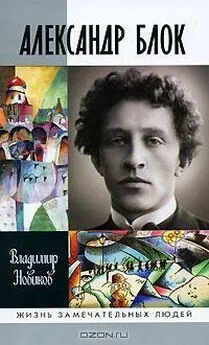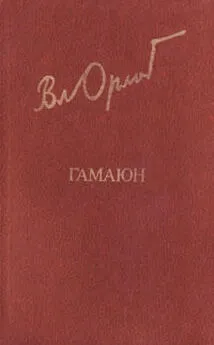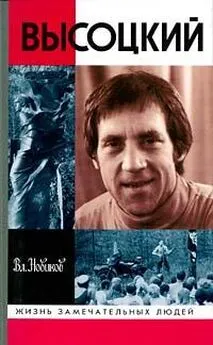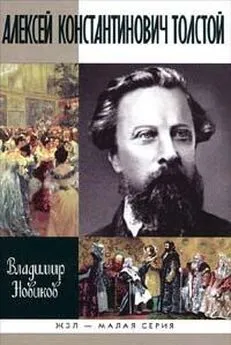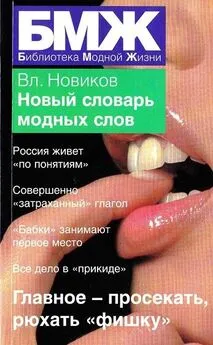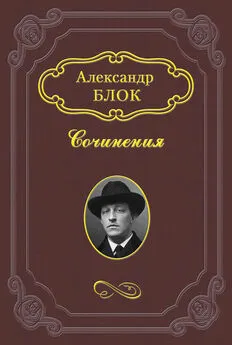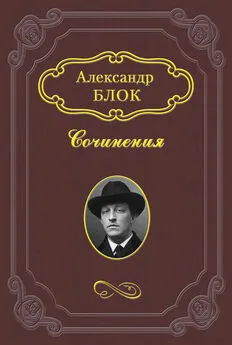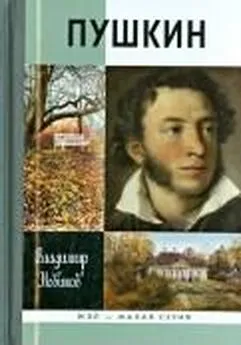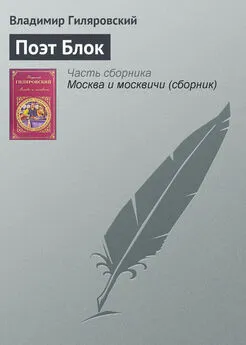Владимир Новиков - Александр Блок
- Название:Александр Блок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая Гвардия
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03362-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Новиков - Александр Блок краткое содержание
О величайшем поэте XX века Александре Блоке (1880-1921) существует огромная литература - биографическая, исследовательская, художественная; каждое поколение по-своему пытается толковать жизнь и творчество гения. Известный литературовед Владимир Новиков предлагает собственную версию судьбы поэта и его времени. Серебряный век представлен в книге замечательной эпохой, а Блок ("трагический тенор эпохи", по слову Ахматовой) - мастером вдохновенного "жизнетворчества", когда поэтическая работа, дружеские связи и любовные переживания образуют прекрасное целое: поэзию. Подробности богемной жизни поэта, его необычные отношения с женой, нервная, но литературно плодотворная дружба с Андреем Белым равноправно поставлены в центр жизнеописания наряду с позицией Блока-гражданина. В полемическом режиме "поэтического заблуждения" рассматриваются автором такие блоковские темы, как интеллигенция и революция, знаменитое стихотворение "Скифы". И в лирике, и в вершинной поэме Блока "Двенадцать" Владимир Новиков прежде всего видит художественную энергию, передающуюся и сквозь толщу века, а соглашаться с авторской концепцией или спорить с ней - это уже привилегия читателя.
Александр Блок - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не «МУзА и ЧуДо», а «МУЧенье и АД» — на данную смысловую антитезу блоковеды обратили внимание давно. Можно только добавить, что интимная связь между «муза» и «мука» в русской поэзии восходит к Баратынскому: «И отрываюсь, полный муки, / От музы, ласковой ко мне».
Добровольное и вечное мучение. Вот в чем грешен художник. Вот в чем его преступление, пере-ступление границы между добром и злом. Адская боль может предшествовать творению (состояние, когда «не пишется»), может совпадать с ним по времени, может приходить по завершении труда (то, что зафиксировано в строках Баратынского). Но, не пережив ее, невозможно создать истинно художественное произведение. Наивный гедонизм, которым кичатся иные литераторы (дескать, получаю удовольствие, а мне за это еще гонорар платят), – верный признак ремесленника, решающего заурядные и сиюминутные задачи.
Творческий процесс родствен самоубийству, а оно – безусловный грех с религиозной точки зрения. Мотив самоубийства иносказательно присутствует в следующей строфе:
Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?
«На рассвете» — это, по-видимому, в юности, а «час, когда уже не было сил» — момент готовности уйти из жизни. В частности, и 7 ноября 1902 года. Но едва ли прав В. М. Жирмунский, считавший, что «Муза и возлюбленная сливаются в одном образе, интимный и личный опыт любовного переживания расширяется в сверхличное истолкование вопроса о смысле жизни, познаваемой через любовь». Отождествление Музы с конкретной женщиной, с возлюбленной, — это традиционный лирический ход (почти штамп, нередко обыгрываемый комически), от которого Блок как раз отказывается. «Ты», «твой» в этом стихотворении не отсылают ни к Любови Дмитриевне, ни к Прекрасной Даме. Скорее Муза соотнесена с Жизнью как таковой, с Вселенной, с целым миром, которому брошен поэтический вызов:
Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Всё проклятье своей красоты?
Какая женщина может подарить поэту «твердь со звездами»? И «ласки», о которых идет речь дальше, отнюдь не любовные, они с любовью сопоставляются и ей противопоставляются:
И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои…
Финальное четверостишие возвращает к началу, речь снова заходит о «проклятье заветов священных», в переформулированном виде и с поворотом на самого художника и на его амбивалентные, оксюморонные эмоции:
И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь?
«Роковая отрада», «горькая страсть»… Это не что иное, как «радость-страданье» в применении к творческому процессу Начало сошлось с концом, стихотворение образовало смысловое и композиционное кольцо. В первой публикации была еще девятая строфа: «И доныне еще, безраздельно / Овладевши душою на миг, / Он ее опьяняет бесцельно, / Твой неистовый, дивный твой лик». Но потом Блок ее отбросил: наверное, ввиду тавтологичности, а может быть, чтобы убрать настоящее время («доныне») — нет, лучше «была», лучше подвести черту. Это первое слово поэта — муза — (стихотворение «К Музе» будет открывать раздел «Страшный мир» и вместе с тем всю третью книгу стихотворений), оно же и последнее, окончательное.
Впервые пятнадцатилетний Блок употребил слово «муза», пародируя «декадентские» стихи: «Горько рыдает поэт… Муза ушла от него». Затем образ Музы (с большой или с малой буквы) появляется как элемент исторической стилизации: «Муза в уборе весны постучалась к поэту…» (1898), «Близь Музы, ветреной подруги, / Попировать недолго, видно, мне…» (1900), «Ты долу опустила очи, / Мою Ты музу приняла…» (1902), «Но эш Муза не выносит / Мечей, пронзающих врага…» (1903). После 1903 года это слово уходит из блоковского словаря: во второй книге стихотворений оно не встречается ни разу. Не вернется Блок к нему и после 1912 года. Такой трагически-серьезный разговор с Музой может состояться лишь однажды.
Стихотворение «К Музе» вполне адекватно воспринимается как программное. И в этом качестве вызывает порой неодобрение. В 1931 году в парижском журнале «Путь» за подписью «Петроградский священник» публикуется статья «О Блоке» (ее авторство некоторое время ошибочно приписывалось П. Флоренскому, потом было установлено, что анонимный доклад принадлежит протоиерею Ф. К. Андрееву). Признавая масштаб Блока как поэта, автор выбирает в качестве «монистической системы» оценки «философию православия». И поэт оказывается обвиненным в «прелести», в «бесовидении» и в «одержимости». Автор полностью цитирует стихотворение «К Музе», после чего заявляет: «Демонизм этой саморекомендации предельно отчетлив». Н. А. Бердяев, редактор журнала, сопроводил публикацию статьи своей заметкой «В защиту Блока», где задается вопросом: «Можно ли произносить над Блоком религиозный суд и каков будет этот суд?» Бердяев резонно предостерегает православных ригористов от присвоения ими «прерогативы Божьего суда». И далее высказывает мысли, которые помогают без предубеждения подойти и к поэзии Блока в целом, и к заветному блоковскому стихотворению: «Творчество совсем не связано со святостью. Творчество связано с грехом. <���…> Творящий отличается от созерцающего Божественный свет и обретающего покой в Боге. Это другой путь, другое призвание, другой дар».
Однако специфическая «инакость» искусства по отношению к этическим и религиозным ценностям осознается с превеликим трудом и постоянно нуждается в новых доказательствах и новых просветительских усилиях. Некоторым эстетически искушенным читателям изначально ясно, что в сфере художественного творчества всё становится материалом: истина и ложь, добро и зло, божеское и дьявольское, что всё это радикально трансформируется, перерабатывается в новую реальность. Но вместе с тем всегда находятся новые разоблачители и обвинители искусства с квазихристианских позиций.
В книгу поэта Наума Коржавина «В защиту банальных истин» входит довольно пространный трактат «Игра с дьяволом. По поводу стихотворения Александра Блока “К Музе”» (1991). Автор подробно рассказывает, как и почему от восхищения блоковскими стихами он перешел к их осуждению. По сравнению с языком «Петербургского священника» и Н. А. Бердяева коржавинский язык отчетливо отдает советской риторикой. Обвинение в «романтизации зла» аргументируется длинными тавтологическими пассажами: «И внезапно человек, который смог преступить всё человеческое, который свои низменные страсти и свой низменный эгоизм сделал содержанием всей своей жизни, а других людей рассматривает только как объект или средство, — вдруг такой человек в чьем-то сознании и на чьих-то страницах приобретает величественные очертания, и ему предоставляют (правда, не пострадавшие от него это делают) право находиться по ту сторону добра и зла, иногда даже говорят: выше добра и зла». Нужно обладать изрядной эстетической глухотой, чтобы таким способом интерпретировать заветное блоковское стихотворение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: