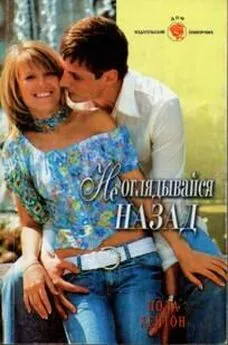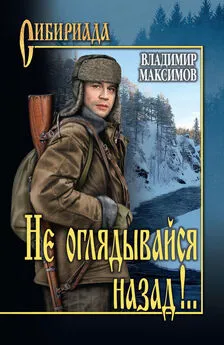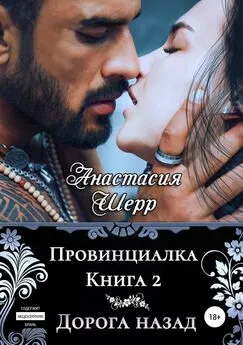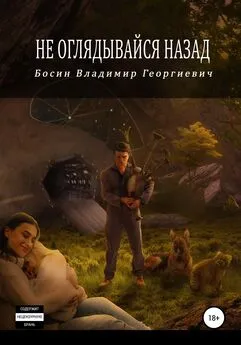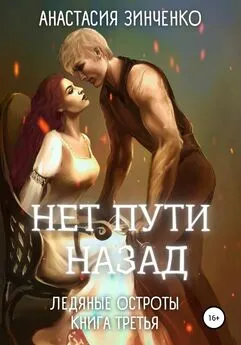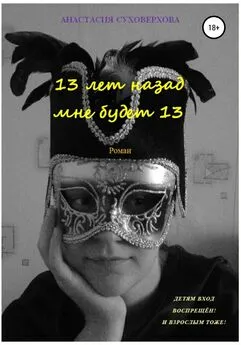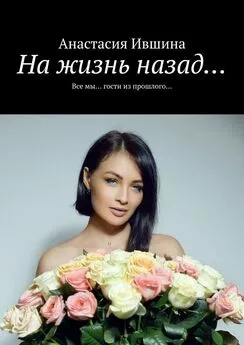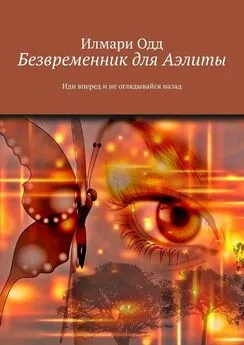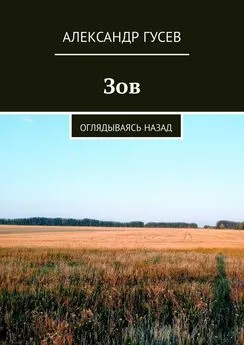Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
- Название:Оглядываясь назад
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2001
- Город:Томск
- ISBN:5—7137—0187—5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад краткое содержание
Воспоминания Анастасии Александровны Баранович-Полпвановой посвящены памяти ее матери, Марины Казимировны Баранович, друга Б.Л.Пастернака, печатавшей рукопись романа «Доктор Живаго». Диапазон книги очень широк: от характерных черт и деталей «немыслимого быта» до живо и нестандартно написанных портретов Б.Л.Пастернака, А.И.Солженицына, Л.З.Копелева
Оглядываясь назад - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне сразу же начали вливать сыворотку, и через несколько дней стало намного легче, но я еще месяца два пробыла в больнице. Поначалу очень тосковала по маме и дому, но довольно скоро освоилась и подружилась со всеми ребятами в палате. Мы, хоть и были лежачие, умудрялись не только болтать, но играть и даже объясняться в любви. Врачи и сестры относились к нам на редкость внимательно, и вся обстановка была какая-то домашняя. В теплые дни, закутанных в одеяла, нас выносили в сад. Мама приходила каждый день справляться обо мне, передавала записки, цветы, фрукты, игрушки и подолгу стояла перед окном (мы были на первом этаже), показывая мне листы с крупными рисунками, изображавшими всевозможные приключения и проделки моего кота, молочного брата ежонка. Эти рисунки веселили не только меня, но и всю палату. После того, как меня выписали, мне еще долго нельзя было бегать и подниматься по лестнице из-за осложнения на сердце, так что в школу я пошла только со второго полугодия. Это был 41-й год, и с началом войны кончилось детство.
III. Картинки из жизни военных лет
Летом 41-го года мы опять жили по Савеловской железной дороге, в деревне Свистухе, в пяти километрах от станции Турист. Наша изба была крайняя, и с крылечка открывался изумительный вид на Яхромское водохранилище, на противоположный крутой берег и на поля и лес на нашей стороне. Мама всегда обожала ковыряться в земле — хотя своего клочка не было никогда — и чего только не было понатыкано в палисаднике: и садовые, и пересаженные лесные и полевые, — не удивительно, что все проходившие мимо на них заглядывались. Так и воскресным утром 22 июня мы отправились в поле выкапывать ромашки и мамины любимые гусаровы шпоры. Возвращаясь домой, мы услышали громкие голоса, плач, на деревенской улице толпился народ — была объявлена война.
Не помню точно впечатлений первых дней. Продолжала жить своей детской жизнью. Вспоминается какое-то собрание на поляне у дачного поселка, где объясняли, как нужно обращаться с противогазом и тушить зажигательные бомбы. Ярко запомнилась первая бомбежка Москвы, — мы находились от нее в шестидесяти километрах, но все равно отлично было видно огромное зарево и шарящие в небе желтовато- белые полосы прожекторов. Крестьяне и дачники собрались на краю деревни и долго не расходились, а вдоль канала и железной дороги — это были хорошие ориентиры — летели и летели немецкие бомбардировщики.
Дети постарше разговаривали о войне, а среди взрослых царили самые разные настроения и опасения, — мать моей подружки не знала куда бы спрятать свой партбилет.
Мхатовцы шептали на ухо друг другу: «Сталин-Ста- лин Сралин-Сралин, нету сытных обедов, нету теплых домов». Народных артистов, особенно на кремлевских приемах, кормили, конечно, сытно, а стране голодать было не привыкать. Да и выражено было уж очень грубо и примитивно, — на уровне анекдотов моих деревенских подружек.
Мама, как всегда быстро принимавшая решения, начала работать в колхозе. Об эвакуации и думать не хотела, а тем более чтобы отправлять меня куда-нибудь одну.
Как-то еще летом рядом с нашей деревней расположилась на ночь воинская часть. Ребята на перебой предлагали свою помощь. Приносили воду, угощали, чем могли, а одни наши друзья, уже немолодые муж и жена, — оба их сына были на фронте, — не отходили от солдат и старались хоть что-то для них сделать, думая наверное, что и их мальчикам вот так кто-нибудь помогает.
Раз в неделю мы с мамой ездили в Москву и забирали хлеб, который получала для нас по карточкам мамина подруга, Елена Владимировна Романова, а мама перевозила все, что только можно было на себе увезти, из дома на дачу, опасаясь, что дом могут разбомбить. Из-за этого, вернувшись в Москву, мы оказались решительно без всего самого необходимого, но об этом позже. Помню, что первое время на большое количество хлебных талонов можно было купить, например, торт, что мы иногда и делали, но так было только в самом начале. А уже очень скоро в магазинах стало пусто. Тогда в Москве любили повторять: «Еще ничего нет, а уже ничего нет. Что же будет, когда что-нибудь будет?»
Итак, мама трудилась в колхозе, я иногда ей помогала, когда надо было полоть гряды и продергивать морковь; выдернутую морковь уносили домой, а когда стали рыть картошку, то тоже немного, как и все, брали с собой в корзинках. Больше всего мама гордилась тем, что научилась косить не хуже крестьян и вообще ей очень нравилось работать в поле, только не было подходящей одежды и обуви. И еще страдала от отсутствия папирос, пока старики не научили ее курить вишневый лист. А вот искусством выпекать хлеб в русской печи она так и не овладела, и когда сообщение с Москвой было прервано, нам пекла хлеб из ржаной муки наша старая хозяйка Татьяна Леонтьевна. Он получался большой, квадратный, с выдавленным в середине крестом, необыкновенно душистый и вкусный.
Снег в тот год выпал очень рано, в сентябре. На всю жизнь я запомнила золотые березы, а под ногами белый ковер, — в этом было что-то траурное и зловещее.
Опасаясь, что Москву ожидает та же участь, что и Ленинград, мама решила остаться в деревне. Прокормиться мы могли, — на мамины трудодни мы получили несколько мешков картошки, капусту и другие овощи и даже зерно, знакомые крестьяне смололи его для нас вместе со своим. Нарезанная тонкими кружочками и высушенная на противне в протопленной печи морковь получалась сладковатая и заменяла конфеты. Кроме того, удалось насушить много грибов, — лето выдалось грибное, и мы часто отправлялись за ними в дальний лес. В погребе еще оставался большой запас керосина. Электричества, как я уже говорила, в деревнях не было, — по вечерам зажигали керосиновые лампы, а летом и готовили на примусе или керосинке. Необходимо было запасти дров на всю зиму, — каждый день мы ходили в лес с пилами и топориками и валили деревья, главным образом березы и ели. не слишком толстые, иначе это было бы нам не под силу, а я ужасно боялась: вдруг поймает лесник. Дома их сами распиливали и кололи, и успели наготовить дров еще до глубокого снега.
Дачники разъехались, за исключением двух, трех семейств, решивших тоже остаться в Свистухе. Вечерами мне становилось особенно тоскливо. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я принималась рассматривать альбом с открытками Третьяковской галереи — я начала их собирать еще до войны — мама вязала или штопала, но Шишкин и Левитан не очень утешали, и я то и дело смахивала невольно набегавшие слезы, надеясь, что мама этого не замечает. Конечно же, мама замечала все, сама же, прекрасно сознавая опасность положения (еще в октябре писала своим друзьям: «…если узнаете, что меня нет, а Настя осталась жива, разыщите ее…»), держалась на редкость мужественно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: