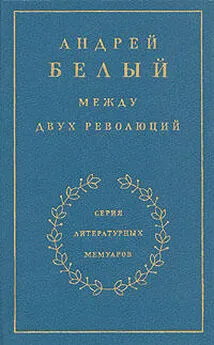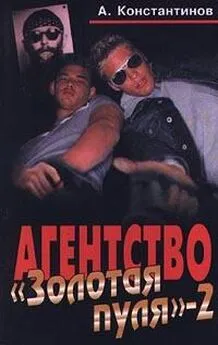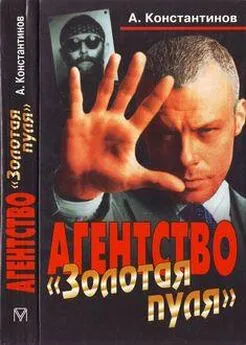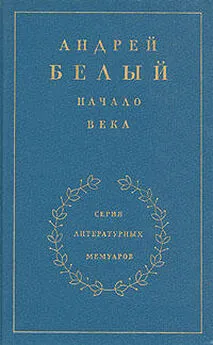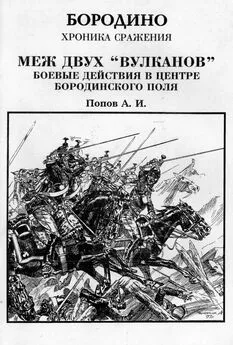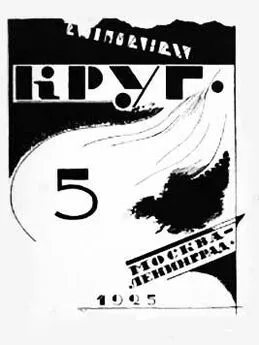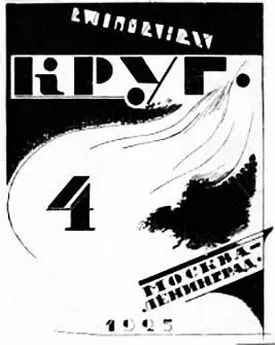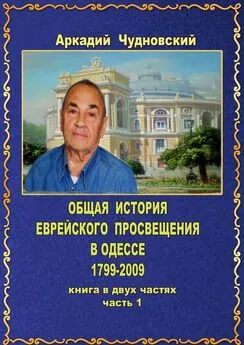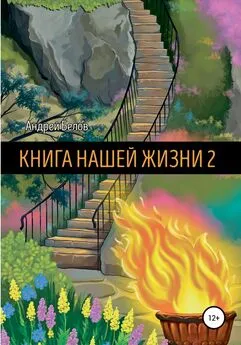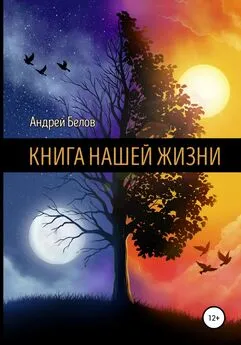Андрей Белый - Книга 3. Между двух революций
- Название:Книга 3. Между двух революций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00517-7, 5-280-00519-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Белый - Книга 3. Между двух революций краткое содержание
«Между двух революций» — третья книга мемуарно-автобиографической трилогии Андрея Белого. Перед читателем проходят «силуэты» множества лиц, с которыми писатель встречался в Москве и Петербурге, в Мюнхене и Париже в 1905–1912 годах. Интересны зарисовки Блока и Брюсова, Чулкова и Ремизова, Серова, Жана Жореса, Коммиссаржевской и многих других.
http://ruslit.traumlibrary.net
Книга 3. Между двух революций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И Михаил Осипович, — такой маленький, прыткий, живой, — точно юноша, выскакивал из своего почтенного кресла, отбросив жестянку, к которой он то и дело кидался: набивать и себе, и мне папиросу; вел руки мыть; после, толкая в спину и властною, и дружескою рукой, проваливал меня вниз по ступенькам:
— «Завтракать, Борис Николаевич, завтракать». Чаще всего я попадал к нему к половине двенадцатого утра; бывало: встанешь, напьешься чаю; понадобится вдруг до зареза что-нибудь спросить, о чем-нибудь посоветоваться с «соседушкой»; он открыл дверь для посещенья его в любой день и час; поздней я уже не стыдился без приглашения вламываться, хотя знал, что, когда б ни пришел, он — работает; работа в светелочке, по-моему, длилась двадцать четыре часа в сутки, за исключением редких выходов его в музей за материалами (был домоседом он и неохотно являлся в гости, где часто сидел, разобидевшись чем-то, с надутыми губами, стараясь сесть за кончик стола, кипя про себя волненьем видимого и слышимого) 239 .
Видывал его и в музее; здесь он мне напоминал крючника, роющегося в старом мусоре: с обиженным видом, мотая лентой пенсне, приборматывая, он ощупывал книжные карточки каталожной так точно, как щупает повар добротность тетерьки; и А. С. Петровский с довольством летел к нему средь холодных пространств, подняв нос, развевая пенснейную ленту от носа по воздуху: с книгами; а сухарь Киселев вылезал из своих невыдирных чащ, где хранил инкунабулы, перемолвиться словом с такою приятной «кухаркой»; и предлагать свой товар; «кухарка» щупала дичь; и принюхивалась:
— «Нет, — это не идет: нехорошо пахнет».
— «А это вот — хорошо».
Я бывал у него раза два в неделю; иногда и не было дела; была потребность: взглянуть на маленького хлопотуна в очках; с невероятной живостью он слетал ко мне с лестницы; и вновь взлетал по ней с жестами, не соответствовавшими ни очкам, ни лысинке, ни начинавшейся седине, в сереньком, кургузеньком пиджачке, не соответствовавшем почтенному реноме.
Под очками хмурого, очень строгого лика, с напученными губами, обрамленными черной, курчавой растительностью, — лика, внушавшего страх, когда он откидывался в спинку кресла, — под очками этого лика из глаз вырывались огни; под крахмальною грудью — кипели вулканы; в иные минуты казалось, что будет сейчас тарарах: где устои культуры? Где выдержка мудрости? Только — огонь, ураган, землетрясение.
Ученейший культуртрегер явил мне не раз мощь в нем живших природных стихий; как кричал на меня он раз: топал ногами и бил кулаком по столу; и потом недель пять продержал в отдаленьи; после же гнев свой на милость сменил; иногда он с такою стремительностью уносился по линии своего последнего внезапного увлечения, что для многих мог выглядеть он настоящей опасностью для музейной культуры, грозя все культуры смести, — он, знаток их!
Однажды, рассерженно набивая свою папироску, взбурлил он в пространство, минуя глазами меня:
— «Вы, Валерий Брюсов, Иванов с вашими дарами — не молокососы даже, а — меньше; и — что там Пушкин? Пушкин юноша перед…»
Перед кем?
Перед… Бяликом.
В чем дело?
В том, что к Гершензону явился поэт Бялик; после беседы с ним М. О. безапелляционно решил: Бялик — гений, которого свет не видал; с Бяликом встретился я через несколько лет; ну да, — умница… но, но, но… О Бялике больше я ничего не слышал от Гершензона: Бялик — потух в нем.
Или: однажды М. О., поставив меня перед двумя квадратами супрематиста Малевича (черным и красным) 240 , заклокотал, заплевал; и — серьезнейше выпалил голосом лекционным, суровым:
— «История живописи и все эти Врубели перед такими квадратами — нуль!»
Он стоял пред квадратами, точно молясь им; и я стоял: ну да, — два квадрата; он мне объяснял тогда: глядя на эти квадраты (черный и красный), переживает он падение старого мира:
— «Вы посмотрите-ка: рушится все» 241 .
Это было в 1916 году, незадолго до революции; перед квадратами М. О. переживал свой будущий «большевизм»; с первых же дней революции — где Малевич, супрематисты? Но тогда обнаружилось: для своих кадетских друзей он — свирепейший большевик.
И когда он пылал увлеченьем, «кумиры», которыми он с таким мастерством оперировал в книгах, отодвигались на задний план (Пушкин, Печерин и Огарев); господствовали минутные увлечения, не попадавшие в книги; и ими не раз он грешил, потому что в минуту своих обуянностей был как слепой; путал даже не так, как большой, а как маленький, в драку вступивший ребенок; считаю несчастным, но, к счастью, минутным заскоком составленный некогда им сборник «Вехи»; 242 хотел он сказать «нет» кадетской общественности; а повел себя, как черносотенник; вскоре по выходе «Вех» Гершензон испугался того, что наделал; 243 позднее о «Вехах» — ни слова; ни слова и я, потому что я понял: хотел-то он выскочить из интеллигенции; и сослепа выскочил не туда; его подлинная природа сказалась поздней: не в сочувствии даже к Октябрьскому перевороту, а в воистину диком, ревущем восторге, с которым он встретил его.
В увлечениях жгучего темперамента он, изумительный аналитик начала прошедшего века, делал в своей специальности порою даже не ошибки, а просто чудовищности, смешивая стихи Боратынского с пушкинскими 244 , сочиняя пушкинские несуществующие любви иль отрицая в Пушкине лучшую фазу его творчества; но для знавших близко М. О. Гершензона оборотной стороною ошибок был пламень неистовства, Щеголевым не ведомый; и за этот-то пламень мы так любили его; в груди маленького человечка с лицом академика — грохотали Этны какие-то; я позднее его называл мифическим Рюбецалем 245 , — духом горных стихии; и он жил для меня точно в горной пещере, а не в кабинетике; его любимые книги — казались не книгами, а камнями, струящими мудрость; входите, и — попадаете в лепеты живомыслия: прядает живомыслием он; прядают живомыслием стены; и прядают живомыслием книги, которые он открывает; забудешь, откуда пришел; и минутный забег — полуторачасовое сидение; и уже зов:
— «Завтракать!»
Понял поздней, что прибег ко мне Гершензона, его приглашение работать с ним — не вопреки бешенству моих тогдашних статей, а — благодаря ему; как Малевич позднее пленил его парадоксом квадратов, так точно статьи мои, перешедшие грани дозволенного, очень живо задели его; темперамент откликнулся на темперамент; сколько раз позднее он, уравновешенно-мудрый, меня подстрекал к кавардакам — вплоть до последней лекции о Пушкине: в скучном «Гахне»; 246 он сетовал на меня за «приличие» моей лекции:
— «Я же вас затащил читать, думая, что вы устроите там кавардак, что поставите все вверх дном; надо было заухать; скучная публика собирается в „Гахне“: какие-то рыбы, — не люди».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: