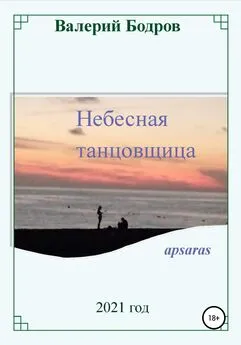Валерий Меницкий - Моя небесная жизнь: Воспоминания летчика-испытателя
- Название:Моя небесная жизнь: Воспоминания летчика-испытателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Олма-Пресс
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-224-00546-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Меницкий - Моя небесная жизнь: Воспоминания летчика-испытателя краткое содержание
Валерий Евгеньевич Меницкий (8.02.1944 г. — 15.01.2008 г.) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Международной премии Лаурела «Лётчик года», шеф-пилот фирмы ОКБ им. А. И. Микояна, заместитель генерального конструктора.
Его по праву называют легендой русского неба, выдающимся лётчиком-испытателем. МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-33, космический аппарат «Спираль»… Судьба всех этих знаменитых машин неотделима от судьбы Валерия Меницкого.
В этой книге он впервые в истории отечественной авиации без прикрас описывает «небесную жизнь», открывает читателям особый мир создателей и испытателей авиационной техники, где кипят свои страсти, идёт своя борьба…
Моя небесная жизнь: Воспоминания летчика-испытателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сама по себе посадка на одной двигательной установке не сложна, особенно когда самолёт лёгкий и ты садишься с небольшим остатком топлива. Но могли быть и другие последствия, особенно если случался отрыв лопаток турбины. Первый такой случай произошёл у Бори Орлова. Затем, после некоторых повторений, очень тяжёлая ситуация возникла у Алика Фастовца, когда от его двигателя вообще мало что осталось. Он буквально рассыпался в воздухе. И потом, когда двигатель был уже вроде бы доработан, отрыв лопатки произошёл и у меня.
Я выполнял показной полёт с одним из инспекторов ВВС. И надо же было такому случиться, что именно в этом полёте у меня отлетела лопатка турбины. Ну, случилось и случилось. Главное для лётчика в этот момент — обнаружить и понять, что произошло. После аварий у Бориса и Алика мы были все «намагничены» на возможность их повторения. И при первом же всплеске показания температуры двигателя были готовы ко всему. Замечу, температура была достаточно тонким индикатором в этом деле. Разница между температурами двигателей не должна была превышать 80 градусов. А деление прибора составляло 50 градусов. Кроме того, надо было учитывать разницу в регулировке двигателей и то, что ты не всегда летел на синхронных оборотах. Всё это часто вызывало «вилку» в показаниях приборов, так что порой приходилось надеяться и на своё чутьё.
Могла сигнализировать о ЧП и сама динамика полёта. Одно дело, когда за ограничение выходит тот или иной параметр, и совсем другое, когда надо всё время определять разницу температур между двигателями, то есть не ограничительные, а синхронные параметры, что гораздо сложнее. Приходилось проверять синхронизацию работы двигателей на разных оборотах.
Но в показательном полёте всё вышло удачно, если можно говорить об удаче в данной ситуации. За этим случаем последовали ещё три, связанные с другими неполадками, а затем произошла пятая — самая неприятная для меня авария. Полёт осуществлялся на «тяжёлой» машине МиГ-31. Он предусматривал взлёт на полном форсаже с максимальной загрузкой машины с четырьмя ракетами. Температура была на пределе — более 30 градусов. Мы взлетели с Лёней Поповым.
Замечу, что немало экстремальных ситуаций у меня возникало в воздухе именно тогда, когда со мною летел Леонид. Это был, как я его называл, «лучший штурман МАПА». Несмотря на всю свою любовь к другому нашему штурману-оператору — Валерию Зайцеву, который кроме всего прочего был моим личным другом, должен признать: Леонид в данной области был выше Валеры за счёт более сильной теоретической подготовки. Хотя у Зайцева имелись и свои плюсы. Эти два штурмана очень дополняли друг друга. Они оба сохраняли хладнокровие в самых критических ситуациях, могли дать нужный совет, проявляли, когда это требовалось, полную выдержку и терпение. И даже если надо было помочь в управлении машиной, и тот и другой прекрасно с этим справлялись, только Леонид сам просил поуправлять самолётом, а Валеру приходилось порой заставлять это делать. Попов достаточно хорошо пилотировал самолёт. Летал он и на тяжёлых машинах.
Лётчики иногда устают от монотонного пилотирования, иные пилоты на закате своей лётной карьеры начинают равнодушно относиться к различным этапам полёта. Лёня пользовался этим и где только мог впитывал в себя навыки пилотирования. Зная эту его охоту, я тоже всегда, когда это было возможно, давал ему «порулить» на более серьёзной технике.
В этой связи я вспоминаю один случай. Фирма Гризодубовой (НИИ радиопромышленности и электроники) создавала летающую лабораторию для отработки прицельно-навигационного комплекса «Кайра» МиГ-27.
Для читателей, далёких от авиации, поясню, что из себя представляет самолёт — летающая лаборатория и конкретно «Кайра».
Как правило, летающая лаборатория — это транспортный самолёт, в пассажирском или грузовом салоне которого располагаются блоки расчленённого комплекса (навигационного, прицельного и т.д.). За каждым блоком ведётся наблюдение, осуществляется запись. За индикаторами сидят операторы, и то, что в полёте выполняет один лётчик-истребитель, здесь выполняет целая инженерная команда. Конечно, возможности у такой команды колоссальные. Во-первых, есть возможность в полёте отрабатывать моделирование и методики; во-вторых, контролировать и корректировать функционирование отдельных блоков и агрегатов, вплоть до их замены; в-третьих, операторы свободны от пилотирования, и это повышает безопасность эксперимента; в-четвёртых, записи параметров каждого режима можно обрабатывать в полёте. Итогом такой программы полётов будут готовые алгоритмы, методики, рекомендации. А лётчики-испытатели уже в реальных условиях на истребителях должны подтвердить правильность выбранного подхода.
К тому времени, когда «Кайра», с большим опозданием, вышла, мы уже провели на самолёте все боевые испытания: боевые пуски ракет, сбросы лазерных и телевизионных управляемых бомб… И тут прилетела лаборатория. Вот такая у нас была экономика: сначала комплекс отработали на истребителе, что очень дорого и менее безопасно, а когда программа фактически была выполнена, начинает летать лаборатория. А должно быть наоборот: именно лаборатория должна быть «первопроходцем» по всем аспектам прицельно-навигационного комплекса, и уже по отработанным на лаборатории алгоритмам мы должны были летать на боевом истребителе.
Впрочем, с подобным экономическим казусом мы сталкивались довольно часто. Так, например, было при отработке опытных двигателей. Из-за плохого оснащения лаборатории (это были старые самолёты Ту-16Л с подвеской), как правило, либо отрабатывали очень узкий диапазон скоростей до 400–450 км/час, либо вообще начинали работать тогда, когда опытный истребитель уже вовсю летал по программе. В связи с этим у нас всегда было много ЧП с силовыми установками.
К тому времени, когда мы получили лабораторию, ведущим лётчиком на «Кайре» назначили меня. Я сменил на этой должности Алика Фастовца, который стал заниматься другой программой. Откровенно говоря, работы на фирме хватало, и летать на Ан-24 с «Кайрой» особого желания у нас не возникало. Тем более что с самой «Кайрой», то есть прицельно-навигационным комплексом, работал инженер-экспериментатор, а лётчик должен был просто утюжить воздух. Потом он шёл в настроечную оператора и уже там отрабатывал отдельные приёмы по «Кайре». Мне это было неинтересно, поскольку комплекс уже был мною отработан.
Но выбора у нас не было, хотели мы того или нет, но обязаны были выполнить программу испытаний на лаборатории — только после этого фирма могла получить деньги, оговорённые в договоре. При этом никого не волновало, что сроки договора институтом были нарушены и лаборатория вышла с большим опозданием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: