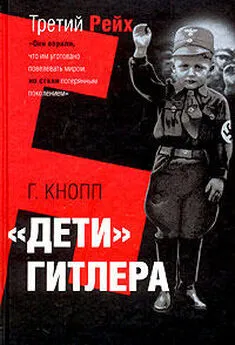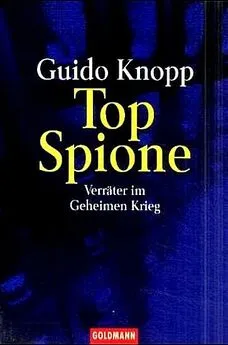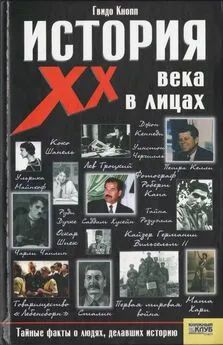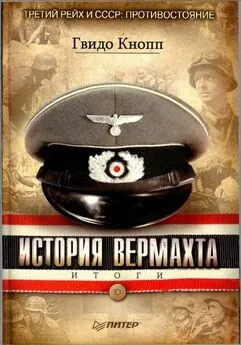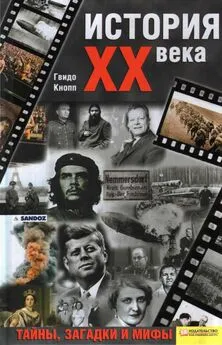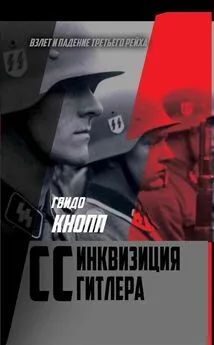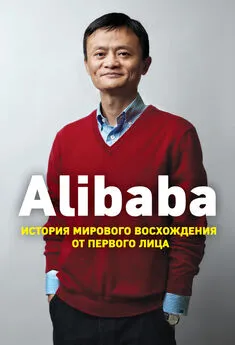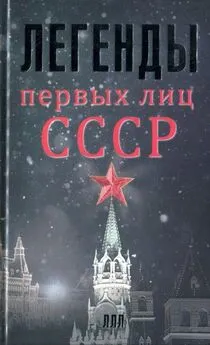Гвидо Кнопп - История триумфов и ошибок первых лиц ФРГ
- Название:История триумфов и ошибок первых лиц ФРГ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-058784-1, 978-5-271-23510-8, 3-442-15067-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гвидо Кнопп - История триумфов и ошибок первых лиц ФРГ краткое содержание
Германия представлена как история ее федеральных канцлеров от Конрада Аденауэра до Гельмута Коля.
Быть канцлером — значит работать на износ. Это наверняка самая тяжелая из всех профессий, что могла предложить послевоенная немецкая демократия. Восемь лет на посту — два стандартных срока — и сильнейшего сделают слабым, но каждый из этих шестерых мужчин стал символом своей эпохи и вошел в историю Германской республики второй половины XX века.
Кнопп предлагает читателю яркие и интересные портреты властителей Западной Германии, историю побед и поражений, падений и взлетов, триумфов и ошибок в борьбе с тяжелым наследием Второй мировой войны за мир, свободу и процветание Германии.
История триумфов и ошибок первых лиц ФРГ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не рассматривая сейчас вопрос о том, насколько серьезным было предложение Сталина — об этом можно спорить бесконечно, — мы полагаем, что упрощение и стилизация фигуры Аденауэра как врага объединения скорее всего является продуктом внутриполитических войн, а не серьезного исторического исследования. Обманчивое представление, что канцлер, решивший объединить Германию, запросто смог бы обуздать и обезвредить тектонические силы «холодной войны», будь на то его воля, всего лишь мечта. На самом же деле федеральное правительство летом 1952 года не имело никакой свободы действий, чтобы самостоятельно «примерять» предложения СССР. Оккупационное положение было еще в силе. Чаще всего из Вашингтона, но также и из Лондона доходили отчетливые сигналы, что в переговорах нет никакой заинтересованности. Министр иностранных дел Дин Ачесон настаивал на том, что нельзя затягивать подписание западных договоров. В чем великие люди Запада были полностью согласны с Аденауэром, так это в том, что Западная Европа без Западной Германии оставалась беззащитной. Так чло Верховные комиссары с удовольствием могли видеть, что уже во время своего первого высказывания относительно предложения СССР канцлер ответил ясным и четким «нег»: «Кремль желает, чтобы все германское пространство стало гигантским вакуумом, на который Советский Союз смог бы оказывать решающее влияние благодаря своей географической близости и с помощью различных средств принуждения». Следует упомянуть, что до разжигания внутриполитических страстей СДПГ реагировала так же сдержанно. 11 марта, через день после опубликования ноты, депутат Герберт Венер намекал Верховному комиссару МакКлою, что и сам он не ожидает никаких результатов от переговоров с Советами.
Ответ Запада, к которому и обращался Сталин, заключался в отправке комиссии ООН для проверки возможности проведения свободных выборов в ГДР, что не значило ничего другого, кроме завуалированного отказа. Наблюдатели ООН, призванные проверить готовность СССР принять принципы демократии, были, конечно же, тонко рассчитанным оскорблением. На вторую советскую ноту тоже был лат отрицательный отпет. В ураган страстей вмешалась и немецкая общественность. После письма Курта Шумахера канцлеру, где он умолял последнего вступить в переговоры с четырьмя крупнейшими в стране политическими силами и использовать, вполне возможно, единственный «шанс», направление действий бундестага стало понятным. Однако действия Аденауэра осуждала не только оппозиция. Рупором национал-консервативной группы стала газета «Франкфуртер Альгемайне» во главе со своим издателем Паулем Сете, позднее он поплатился за это своей должностью при незаметном содействии канцлера. Он вместе с летописцем немецкой истории, Герхардом Риттером, ожесточенно пытался подвигнуть «канцлера, идущего на поводу у Америки» изменить политический курс. Их аргументы звучали еще более резко, чем дебаты в бундестаге. Сете обвинял значительную часть немецкой прессы, которая упорно не желала разделять его мнение, в молчании, за которое «уплачено американскими кредитами».
Аденауэр противостоял всем нападкам, даже в своем собственном кабинете министров, где больше всех выступал за изменение политики берлинец Якоб Кайзер. Канцлер с облегчением заметил, что, судя по опросам общественного мнения, число немцев, поддерживающих его политику, неуклонно возрастает. Он очень хорошо запомнил, какой волнующей темой является тема воссоединения Германии. Через год самым популярным плакатом из напечатанных к предвыборной кампании ХДС был плакат с изображением руки, поднятой вверх как для присяги, и с надписью: «Эту клятву я приношу перед всем немецким народом. Мы не остановимся и не отдохнем, пока Германия не будет воссоединена в мире и свободе». Аденауэр повторял эту формулу на манер надписи на молитвенном барабане: «В мире и свободе». Но объединение ни в коем случае не должно было быть сопряжено с нейтралитетом, поскольку в таком случае вся Германия рано или поздно окажется под влиянием социалистического блока во главе с Советами. Западу нужно просто накопить достаточно сил, тогда СССР придется когда-нибудь добровольно отдать свою зону. Доброжелательно настроенные аналитики называли эту теорию «магнитной». В ответ недоброжелатели выбрали свое название: «пожизненная ложь молодой республики». Независимая «Нью-Йорк Таймс» уже в 1952 году трезво замечала, что стратегия канцлера и стран Запада — курс, «который положит конец всем надеждам воссоединить Германию мирным путем в ближайшее время».
Были клятвы Аденауэра всего лишь коллективной риторикой федеративного немецкого «союза потребителей», который попросту хотел облегчить свою совесть, как считал Рудольф Аугштайн? Или канцлер и в самом деле верил в возможность воссоединения Германии посредством «политики силы»? И являются ли, таким образом, падение Берлинской стены и объединение Германии в 1989–1990 годах запоздалой победой «великого канцлера»? Если да, то он как минимум чудовищно просчитался Когда в апогее кризиса вокруг советских нот английские журналисты язвительно спросили его, когда стоит ожидать отступления СССР из ГДР — через 25 или 100 лет, Аденауэр ответил с серьезным выражением лица, что, по его мнению, это произойдет в период «от пяти до десяти лет».
На самом же деле консолидация противоборствующих Западного и Восточного блоков дала понять Аденауэру, что «политика силы» не приведет к быстрой победе, на которую он возлагал надежду. Незадолго до своей смерти он признал это. Внутренний взрыв советского блока, произошедший в 1989 году, лежал вне его мировоззрения. Его надежды основывались скорее на эскалации конфликта между Москвой и Пекином, в ходе которого Кремль был бы вынужден пойти на некоторые уступки Западу. Такое видение проблемы было не актуально к 1989 году. Вряд ли между отклонением ноты Сталина и визитом «внука» Гельмута Коля на Кавказ можно провести прямую линию. Аденауэр не был пророком, просчитавшимся на пару десятилетий. Вместо этого он действовал, исходя из существовавших реалий, учитывая все обстоятельства. А реальностью были интересы оккупационных сил. «Самой смертельной ошибкой, — резюмировал Франц Йозеф Штраус происходящее во внешней политике начала канцлерства Аденауэра, — было бы потерять доверие американцев».
Но что произошло бы, если бы бомба, пришедшая с письмом, которую еврейские террористы прислали 20 марта 1952 года на имя Аденауэра, разнесла бы на куски не сотрудника саперной группы, а самого канцлера? Повернулась бы история по-другому? Вряд ли. Ни Якоб Кайзер, ни Ойген Керстенмайер не смогли бы свернуть Западный альянс с выбранного им пути. Даже если бы другой канцлер и потребовал как следует «проверить» советское предложение, разделение Германии и враждующие лагеря в Европе все равно существовали бы. Единственным отличием могло бы быть отрицательное отношение Федеративной республики к западным странам-победительницам. Прошло бы так же беспрепятственно возвращение ФРГ государственного суверенитета? Вопрос непростой. Также остается неясным, смогла ли бы экономика Западной Германии так же быстро и твердо встать на ноги на мировом рынке. Угрожающим выглядит развитие событий, если бы 17 июня 1953 года Федеративная Республика Германия отреагировала бы иначе, не так, как при Аденауэре, а заявила о своей солидарности и провела бы массовые демонстрации в поддержку восстания в Восточной Германии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: