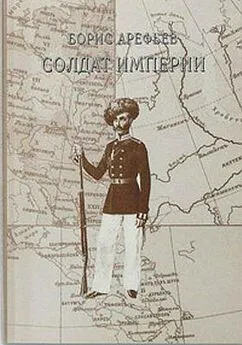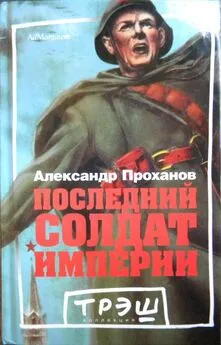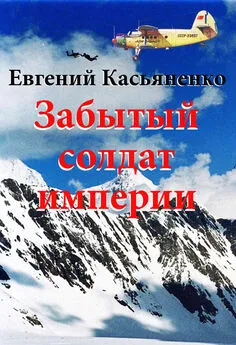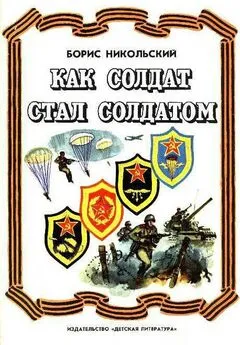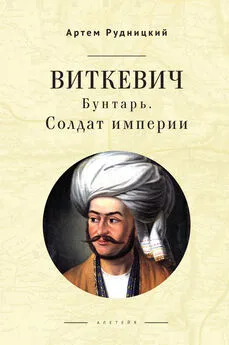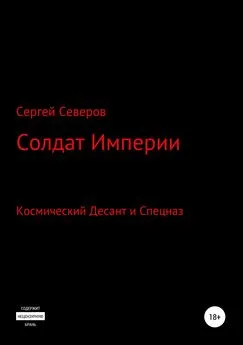Борис Арефьев - Солдат Империи
- Название:Солдат Империи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский путь
- Год:2003
- ISBN:5-85887-167-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Арефьев - Солдат Империи краткое содержание
Желание узнать, откуда «есть пошла» его фамилия, заставило Б. Арефьева обратиться к архивным источникам. Результатом долгих поисков стала история прадеда автора, солдата Русской Императорской армии Ивана Арефьева. Эту историю нельзя назвать сугубо семейной, частной. Автору удалось восстановить кусочек прошлого России в сложный период ведения Кавказской войны. Опираясь на архивные материалы, Б.Арефьев рассказывает читателю, как рекрутировали Ивана в армию, как нес он службу, оставаясь верным присяге, царю и Отечеству.
Солдат Империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начальник дивизии разрешение дал, что очень обрадовало солдат: они, крестьянские мужики и парни, давно между собой говорили, что с холщовым-то мешком сподручнее. Может, начальство и узнало об этом через ротных командиров.
Время шло, стычки и полномасштабные бои, перестрелки, вырубка просек продолжались. Некоторые роты Тенгинского полка вновь двинулись к Грозной, а Навагинского – к «Бумутскому укреплению», две роты отправили в районы южной Кубани «для содействия жителям». Из мушкетерских и гренадерских рот между тем сформировали «Горно Чеченский отряд». Алхан Юрт и Старый Ачхой в течение лета и осени 1853 года упоминаются как места активных боевых действий.
Все геройские (и не очень) военные дела (и бытовые тоже) отражались в сводках, донесениях, рапортах полковых командиров высокому начальству. Рекруты же свое видение войны выливали в песни – находились по такому случаю среди солдат сочинители. Грустные, порой щемящие и тоскливые, песни эти отражали душевный настрой «солдатушек».
Запоем мы с горя песню про солдатское житье,
Про солдатское, братцы, житье, про походы про свои.
Нас на горку, братцы, выводили, во шеренгу становили.
На все стороны Богу молились, С отцом, с матерью простились.
Нам приказы отдавали:
«Бейте, братцы, бейте, не робейте!»
Между тем переписка о «немедленном» выходе за Кавказ продолжалась до марта 1854 года. Наконец, 22 апреля выступили батальоны Навагинского полка, а затем, в мае, Тенгинского. С ними отправился и командир тенгинцев Оночин, о чем и доложил Начальнику дивизии.
Эти части позднее вступили на территорию Владикавказского военного округа, а Кубанский полк двинулся в направлении Тифлиса.
Перед походом пришли приказы об увольнении солдат, что отслужили двадцать пять лет, в отставку. Таких набралось немало, проводили их как положено: построили роты, солдаты взяли ружья «на караул», офицеры отдали заслуженным солдатам «шевронщикам» честь; несколько человек из них имели награды.
Потом строй распустили, Иван, как и другие, пошел проститься с отставниками – хорошо знал их всех в батальоне, и они егоза четыре года тоже в делах повидали.
Уходил и отделенный унтер-офицер; по разному складывалось, когда учил он уму разуму молодых солдат, но обиды на него никто не таил. Иван остался сильно доволен, что дядька на прощание его приобнял и сказал негромко: «Будь жив».
Долго провожающие смотрели вслед повозкам, пока те не скрылись за уклоном дороги. Часть отставных возвращалась к семьям, но большинство уходили к неизвестному пристанищу, хотя в документах, которые получил каждый из них на руки, указано было, как положено, в какие места отправлялся теперь солдат.
Роты спешно пополнили. По представлению командира полка стал Иван ефрейтором, должен теперь наставлять молодых, помогать новому отделенному. Внешне он тоже преобразился, остепенился, возмужал. Лицо его давно прожег темный, с краснотой загар, уверенно и цепко глядели серые глаза, отрастил Иван усы, переходили они на щеку широкой полосой. Шел солдату двадцать пятый год…
В 1855 году откомандированные роты и батальоны Тенгинского и Навагинского полков, согласно приказа, наконец, вступили на территорию тогдашнего Владикавказского военного округа.
До Владикавказа около ста верст прошли горной дорогой. Крутые склоны и ущелья этих мест, высокие скалы даже для старослужащих были в диковинку, а молодое пополнение с русских равнин и вовсе приходило в изумление. От края узкой дороги, с которой время от времени срывались в пропасть камни, старались держаться подальше, в особо опасных местах лошадей брали под уздцы.
Когда замечали на крутых склонах овец, что издали виднелись серым горохом, просыпанным на зеленую скатерть лугов, удивлялись, что не скатываются они в ущелье.
Но особо глазеть по сторонам не приходилось – береглись осыпей и других опасных случайностей в незнакомой стороне.
Годом основания Владикавказа считается 1783 год, вырос он на месте осетинского аула Капсай, что означает «Горные ворота», и расположился по обоим берегам Терека на высоте порядка шестисот семидесяти метров над уровнем моря. В то время Владикавказ был крепостью и как бы замыкал вход в ущелье Терека. Поэтому город этот, как начальный пункт на Военно Грузинской дороге, имел стратегическое значение – перекрывал единственный в Закавказье удобный подступ к Тифлису. Неслучайно здесь находились штабы дивизий, бригад и полков войск Кавказского корпуса.
Россия уделяла Владикавказу и Осетии в целом очень серьезное внимание, в частности, большие усилия направлялись на распространение здесь православия. Еще в 1836 году, то есть лет за двадцать до описываемых событий, во Владикавказе открыли духовное училище; в целях просвещения и налаживания более тесных отношений с местным населением делались переводы книг на осетинское наречие с использованием букв «русской гражданской графики».
Пребывание во Владикавказе и вообще на территории Осетии солдаты восприняли как отдых, хотя находиться в казармах, постоянно на глазах у высокого начальства, тоже было не сахар.
Однажды послали Арефьева в Штаб батальона, где у писарей обязали его взять какие-то бумаги да десяток свечей, еще мешок с рогожами на складе и всякой мелочи для ротного начальства.
По такому случаю прихватил он с собой недавнего рекрута из Саратовской губернии, что служил теперь в его же отделении. По дороге обратно повстречался им подполковник Туманов, их командир батальона, а с ним поручик.
Как положено, стал Иван во фрунт, ожидая командира, приложил правую руку к козырьку фуражки, да и молодяге скомандовал тихонько, чтобы отдал честь.
Подполковник почти прошел уж, да вдруг развернулся к солдатам; поручик остановился чуть поодаль. «Что же это, порядка не знаете… Как следует приветствовать офицеров…» – спросил он сердито.
Иван растерялся, потом чуть скосил глаза влево, на своего товарища. Тот, вопреки правил, бросил мешок на землю в грязь, сдернул фуражку с головы. Волосы, то ли от страха, то ли заломленные неудачно надетой фуражкою, торчали рыбьим плавником.
Поручик, глядя на все это и покусывая губы, едва сдерживал смех. А когда подполковник двинулся дальше, смешливый поручик, возрастом не старше Ивана, приказал Арефьеву доложить об этом случае командиру роты и отделенному, а провинившемуся солдату сказал: «Ну и балда же ты, братец».
Пришли в роту, доложил Иван по команде, как офицер велел, а сам со злости треснул напарника, который подвел его, по затылку.
Но на этом дело не закончилось, подполковник был человеком строгим, солдат своих, в том числе Ивана Арефьева, знал в лицо. И 8 марта 1856 года издал приказ по батальону, в нем говорилось: «…Нижние чины, имея в руках или на плечах ношу или же бумаги, при встрече с офицерами снимают фуражки, равно же и папахи, и делают фронт, ротным командирам строго за этим беспорядком следить, чтобы унтер-офицеры и старые солдаты внушали рекрутам, как должны в этом случае поступать. Старые солдаты должны за это отвечать».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: