Антон Бринский - По ту сторону фронта
- Название:По ту сторону фронта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Волго-Вятское книжное издательство
- Год:1966
- Город:Горький
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Бринский - По ту сторону фронта краткое содержание
Герой Советского Союза А. П. Бринский в годы Великой Отечественной войны командовал партизанским соединением, действовавшим в Белоруссии, в западных областях Украины и в Польше. Отряды, входившие в партизанское соединение Бринского, совершили за время войны свыше пяти тысяч диверсий в тылу врага.
В книге «По ту сторону фронта» автор рассказывает, как советские люди, находясь на временно оккупированной врагом территории, выполняли указание Коммунистической партии — создать невыносимые условия для фашистских захватчиков и их пособников. Герои книги — подрывники, разведчики, связные, радисты. А. П. Бринский хорошо показывает боевую дружбу народов Советского Союза, связь партизан с местным населением, с народом, ярко рисует героизм советских людей, их глубокую веру в победу над врагом.
По ту сторону фронта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хозяйка, увидев оружие, испугалась:
— Это что?
А Каплун смеется:
— Не бойтесь, не бойтесь: все равно уходить. Берите эти сапоги, а свои оставьте… А ты, хозяйка, не бойся. Скажешь, что капитан (он нарочно назвал себя капитаном) ушел.
С этим они и покинули Бучатин…
Над забавным рассказом посмеялись. Посмеялись и над лаптями, но некоторые партизаны последовали примеру Каплуна. Что бы ни говорили о лаптях, — они действительно и легки, и удобны. Да и сапоги сберегаются. И человек, обутый в лапти, ступает по лесным тропинкам тихо, почти беззвучно (а это особенно важно для партизана-подрывника).
Ежедневно наш отряд выходил на задания почти в полном составе. Если не хватало взрывчатки, обходились без нее: разбивали маслозаводы, рубили телеграфные столбы, разгоняли полицаев и заготовителей. В лагере оставалось трое, ну, самое большее — пять человек, да и этим не хотелось сидеть дома. Должность повара казалась обидной. Эту должность исполняла у нас Тоня Бороденко, но исполняла скрепя сердце. Ей бы пускать под откос поезда, поджигать нефтесклады, рвать провода немецкой связи!..
Когда мы готовились к переходу, я предлагал ей остаться в «Военкомате», опасаясь, что девушке не по плечу будет и долгая дорога и тяжелая работа подрывника. Она настояла на том, чтобы ее взяли, хорошо выдержала переход и наравне со всеми принимала участие в диверсиях: на ее счет мы уже записали три эшелона. Но, конечно, ей это было труднее, чем мужчине, а держать мужчину-бойца в качестве постоянного кашевара было слишком роскошно для нашего отряда, поэтому я и назначил ее поваром. Первый день она работала под руководством прежнего повара Прудникова, а потом освоилась и сделалась настоящей хозяйкой нашего лагеря.
А хозяйство у нас было не малое. Чтобы не канителиться каждый раз с добыванием продуктов, мы обзавелись собственным стадом, отобрав у хатыничского солтуса сотню овец, которых он приготовил для немцев. Пригнали их к себе на островок. Там они и паслись по болотам. Правда, возни с ними было тоже немало: они уходили на другие островки, плутали где-то в зарослях. Пришлось устроить загон и ежедневно выделять двух «пастухов» для присмотра за стадом. Должность «пастуха» тоже казалась бойцам обидной, но зато мы ежедневно ели свежую баранину. И как-то само собой повелось, что Тоня, поднимаясь каждый день раньше всех, будила Илясова, чтобы он заколол и освежевал очередную овечку.
Прямо в лесу нашли мы большой участок картошки, посаженной лесничеством, и копали ее в придачу к нашей баранине. Добыли мы и меда. Сивуха и Кузнецов (Макар) встретили как-то на дороге подводу, которая везла в Ганцевичи для фашистов пять пудов меду, и доставили этот мед к нам на островок. Так же примерно доставали муку, фасоль и т. д.
Все эти запасы нужны нам были для того, чтобы в поисках пищи не появляться слишком часто в ближайших деревнях, не наводить фашистов на наш след, не показывать им, где расположен наш лагерь.
Но крестьяне знали о нас. Для успеха работы необходима теснейшая связь с населением и его сочувствие. И население действительно сочувствовало нам. Люди, прожившие в советских условиях только год и восемь месяцев, слишком хорошо помнили помещиков и чиновников панской Польши. Они хотели остаться советскими людьми. Каждый взорванный эшелон, разогнанный полицейский участок, сожженная бензобаза радовали крестьян. Они всеми силами старались помочь нам, сообщали необходимые сведения, снабжали продуктами.
Чаще всего встречались мы с пастухами на пастбищах, а иногда видели хозяек, выходивших к стаду на полуденную дойку коров. В таких случаях женщины оставляли подойники и собирались вокруг партизан, чтобы расспросить о новостях и самим рассказать о том, что делается в деревне, пожаловаться на бесчинства захватчиков. Угощали женщины наших бойцов молоком, хлебом, салом. Специально приносили для нас свои домашние лепёшки или белорусские картофельные драченики, соль, табак, спички. Бывало и так, что все это принесенное для партизан, оставалось у пастуха: придут и возьмут. А некоторые пастухи ставили во время дойки отдельный бидон и говорили:
— Это молоко для партизан.
И женщины наполняли бидон.
Но пусть не думают читатели, что нам жилось легко и сытно. Да, у нас на островке были запасы. Крестьяне всегда были готовы помочь нам. Но ведь большую часть времени мы проводили не «дома», а «на работе», блуждая по лесам и болотам. Захватить с собой много продуктов мы не могли, а путешествовать иногда приходилось по десять-пятнадцать дней. В населенных пунктах мы тоже не должны были показываться, пока не выполним задание, чтобы немцы не догадались о предполагаемом взрыве. Но даже в тех случаях, когда мы встречались с крестьянами, они не всегда в состоянии были снабдить нас всем необходимым. Бедно и скудно жилось крестьянам «под немцем».
Вот пример того, как мы помогали крестьянам и крестьяне помогали нам.
Группа Мирового взорвала эшелон и возвращалась обратно единственной дорогой, проложенной от хутора к хутору по Ружанской пуще. Было воскресное утро. Где-то недалеко бомкал колокол, и люди из хуторов тянулись к церкви. Старики, вероятно, и на самом деле рассчитывали помолиться: в этой церкви не было своего попа, а уж если зазвонили, значит, поп приехал, и они не хотели упускать случая. Молодых подгоняли десятники. Вчера из Ружан прибыли немецкие вербовщики, и начальство приказало всему взрослому населению собраться у церкви. Вместе с вербовщиками явились три десятка солдат. Они должны будут сопровождать (вернее, конвоировать) «завербованных» в Ружаны. Без такого конвоя не было бы никакого толку от вербовки, ведь никто не шел добровольно.
С первых дней оккупации крестьяне разбегались от вербовщиков. А вербовщики налетали на наши села, как в средние века налетали турки или татары. Конечно, фашисты приезжали не на диких степных лошадях, а на тяжелых грузовиках; не накидывали издали аркан на селянина, а убивали или грозили ему автоматом, но суть оставалась та же: гитлеровцы воскрешали средневековый обычай угона жителей в полон, в неволю. Иногда они пользовались при этом неожиданностью своего налета, а иногда просто обманывали народ, собирая его при помощи старост и полиции на собрание, или на молебствие, как было и в этот раз.
Немцы уже знали о гибели своего эшелона и были уверены, что обратно партизаны пойдут по этой единственной дороге. Отряд, приехавший с вербовщиками, устроил засаду около одного из хуторов и просидел там всю ночь с субботы на воскресенье. Наверно, глаз не смыкали гитлеровские вояки, автоматов не выпускали из рук и вздрагивали при каждом шорохе. А партизан все не было… Утро пришло, хутора проснулись, зазвенел колокол, крестьяне пошли к церкви. Фашисты успокоились: днем партизаны не придут — и отправились на отдых. Забрались в сарай, полный свежего сена, выставили одного часового и уснули.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
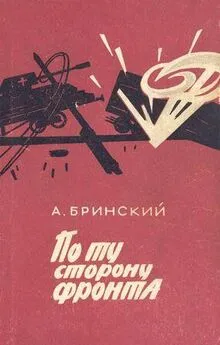
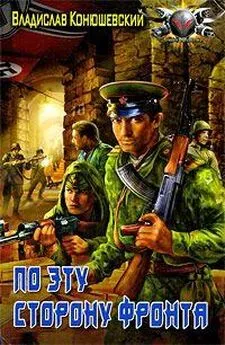
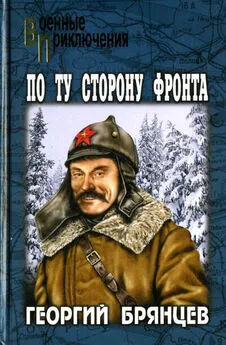
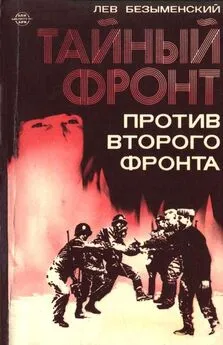

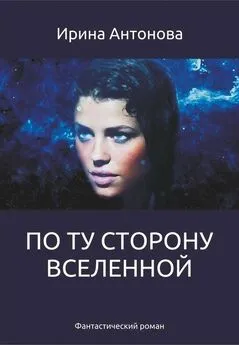

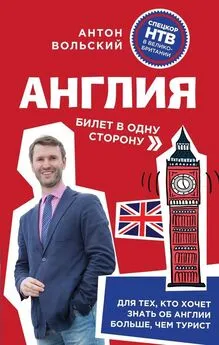
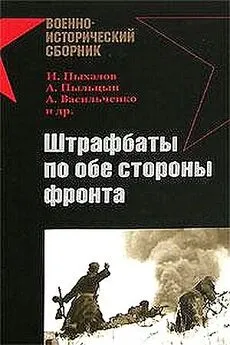
![Владислав Конюшевский - Попытка возврата [Попытка возврата. Всё зависит от нас. По эту сторону фронта. Основная миссия]](/books/1146018/vladislav-konyushevskij-popytka-vozvrata-popytka-vo.webp)