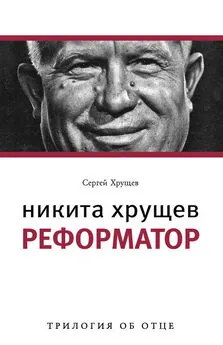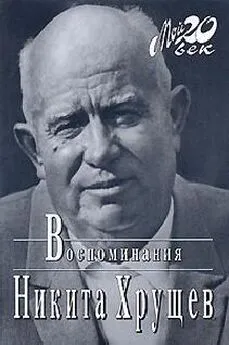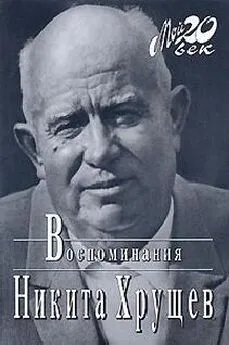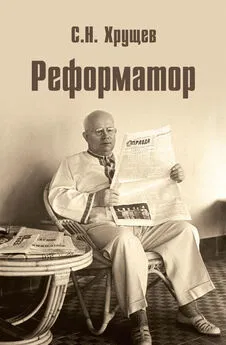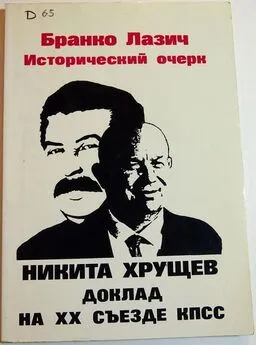Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор
- Название:Никита Хрущев. Реформатор
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0533-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Хрущев - Никита Хрущев. Реформатор краткое содержание
Книга «Реформатор» открывает трилогию об отце Сергея Хрущева — Никите Сергеевиче Хрущеве — выдающемся советском политическом и государственном деятеле. Год за годом автор представляет масштабное полотно жизни страны эпохи реформ. Радикальная перестройка экономики, перемены в культуре, науке, образовании, громкие победы и досадные просчеты, внутриполитическая борьба и начало разрушения «железного занавеса», возвращение из сталинских лагерей тысяч и тысяч безвинно сосланных — все это те хрущевские одиннадцать лет. Благодаря органичному сочетанию достоверной, но сухой информации из различных архивных источников с собственными воспоминаниями и впечатлениями Сергея Никитича перед читателем предстает живая картина истории нашего государства середины XX века.
Никита Хрущев. Реформатор - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Косыгин никогда не рисковал, но тут, несмотря ни на что, поставил на Хрущева. И выиграл. В октябре 1964 года он сменит Хрущева на посту главы правительства. Отец сочтет его кандидатуру достойной.
Вместо Козлова председателем правительства РСФСР стал сорокалетний Дмитрий Степанович Полянский. Отец с ним познакомился в Крыму, где Полянский с 1949 года «сидел» в обкоме. Отцу он понравился своей деловой хваткой, и он больше не выпускал Полянского из вида. Предложив Полянского на «Россию», отец положил начало омоложению верховных кадров. Он считал недопустимым, что руководство страны сосредоточено в руках пятидесятилетних «стариков». Пора уступать дорогу молодым энергичным людям, жадным до нового и до самой жизни. Полянский, по мнению отца, как раз из таких. В октябре 1964 года Дмитрий Степанович подготовит настолько пропитанный ядом доклад против уже фактически потерявшего власть отца, что даже Брежнев с Сусловым не сочтут возможным выпустить его на трибуну.
Почти одновременно с потерей Булганиным поста главы правительства покинули Москву еще два «антипартийца» — Первухин с Сабуровым. Первый в марте 1958 года отправился послом в ГДР, где и прослужил до 1963 года. Он активно общался по службе с отцом, принимал его в Берлине во время государственных визитов. Оба они делали вид, что прошлое забыто. В 1963 году отец предложил Первухину работу в Москве во вновь созданном, самом главном Всесоюзном совнархозе. Имел ли он на Первухина какие-то виды (отец высоко отзывался о профессионализме Первухина), не знаю. После отставки отца Первухин так и засох на уровне начальника отдела, сначала в Совнархозе, а после его ликвидации — в Госплане.
Сабурову повезло меньше. Отец не простил ему провала с пятилеткой. В мае 1958 года Сабурова отправили в Сызрань. Там он и руководил то одним, то другим заводом до 1967 года, до пенсии.
Ворошилова не тронули. Он оставался Председателем Президиума Верховного Совета до 1960 года, так же лебезил перед отцом, как он когда-то лебезил перед Сталиным, с готовностью и радостью всей семьей навещал отца на даче. Если его приглашали, конечно. Отец относился к Ворошилову снисходительно-покровительственно, но считал его бездельником, что, скорее всего, соответствовало действительности. Ворошилов умер уже при Брежневе. Похоронили его почти по высшему разряду, на Красной площади, в Кремлевской стене.
Ферма или подворье?
13 февраля 1958 года все центральные московские, а затем и региональные газеты опубликовали решение ЦК компартии Украины «Об ошибке при закупке коров у колхозников в Запорожской области». Речь шла даже не обо всей области, а о двух ее районах: Приморском и Мелитопольском. Что же такого там случилось, что шум подняли на всю страну?
Все началось два года назад, летом 1956 года. Возвращаясь после отпуска из Крыма, отец остановился в своей родной Калиновке, благо от шоссе Симферополь — Москва она находилась рукой подать. Отец, как и в предыдущие годы, пообщался с колхозниками, зашел в пару хат к своим старым приятелям, поговорил с председателем в правлении, а потом выступил на центральной площади. Говорил он, как обычно в таких непротокольных случаях, без бумажки, без заготовленного текста и даже без плана. Он рассуждал, делился со слушателями своими мыслями. Его слова привели слушателей в замешательство. Отец предложил передать коров из личных хозяйств колхозников в колхозные фермы. Крупные, механизированные, они обеспечат коровам лучшую жизнь, удои поднимутся, а колхозники избавятся от непроизводительного труда по обслуживанию одной-двух буренок, у них отпадет необходимость в ручной дойке. Доить коров на фермах станут по-современному, «елочкой».
Так называлась еще одна позаимствованная в США технология. Там уже много лет не доили коров вручную, а надевали им на соски специальные наконечники, соединенные трубочками с приемной молочной цистерной. Хитроумно сконструированная вакуумная система то, разрежая воздух, то увеличивая давление, массировала вымя получше рук опытной доярки и одновременно отсасывала по стерильным трубочкам молоко в стерильный же бак. «Елочкой» систему прозвали за геометрию стойла, куда загоняли коров на дойку. Коров ставили под острым углом головой к центральному стволу молокопровода, вот и получалась «елочка». Система оказалась простой, удобной, высвобождалась сразу целая армия доярок, да и разбавлять молоко водой становилось труднее. Раньше плеснешь в неполный подойник из ковшика — и выполнил план по удою, а тут в переплетение трубок и не подлезешь.
Прочитав о механической дойке, отец стал ее горячим сторонником, пропагандировал «елочку» в своих выступлениях, газеты отводили «елочке» целые развороты. И теперь, выступая перед односельчанами, он не преминул вновь помянуть «елочку».
Слушатели знали «елочку», ее недавно установили на местной ферме. Система работала, но крестьянам казалось, что доились коровы не совсем так, как вручную. Дома буренку, если заартачится, и по вымени погладишь, и похлопаешь, и за соски потянешь нежно. А с машины, что взять? Выдаивает не до конца, приходится добирать вручную. Однако отцу они не перечили, коров в «елочку» загоняли исправно. А затем и доярки, и коровы привыкли, — «елочка» прижилась. Казалось, так доили всегда.
Закончив рассказ о преимуществах «елочки», отец вернулся к исходной мысли, разъяснил, что, передав коров на общественную ферму, молоко, масло, сметану, творог крестьяне смогут купить в колхозном магазине, притом затратят на продукты меньше, чем выходит сегодня.
Собственно, отец и тут ничего нового не открывал. В той же Америке фермы давно специализировались: одни на зерне, другие на мясе, третьи на молоке. В первой половине XX века хозяйство стало товарным, времени на собственный огород у фермера не оставалось, свой товар продавали, а чужой покупали. Цифры производительности труда, себестоимости, товарной эффективности, их отец мог повторить без запинки, свидетельствовали о несомненных экономических преимуществах крупных специализированных хозяйств.
К сожалению, неоспоримые в Америке истины на российском подворье выглядели иначе. Крестьяне цепко держались за свои приусадебные участки, за домашний скот. Кто его знает, что там власти надумают, за что заплатят, за что и не заплатят, а личное подворье не подведет.
Рассуждения отца представлялись оторванными от реалий крестьянской жизни не только для калиновцев. По мнению экономистов-аграриев, без своего подворья колхозники просто не выжили бы. Согласно справке Центрального статистического управления, которые отец регулярно читал, в 1958 году доходы крестьянской семьи от личного хозяйства составляли 42,0 процента, в колхозе они зарабатывали чуть меньше: 41,3 процента, то есть делились практически поровну. Если их сложить, получится 83,3 процента. Остающиеся 16,7 процента автор отнес на счет доходов «от государственных и кооперативных организаций», не расшифровав, что же это такое. В нашем случае это не так уж важно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: