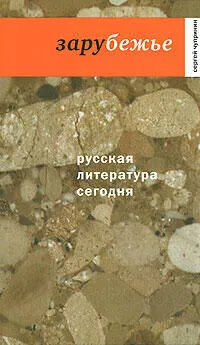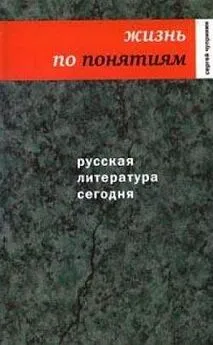Сергей Чупринин - Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета
- Название:Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0757-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Чупринин - Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета краткое содержание
В эту пеструю, как весенний букет, книгу вошли и фундаментальные историко-литературные работы, и мемуарные очерки, и «сердитые» статьи о том, как устроена сегодняшняя российская словесность, известный критик, главный редактор журнала «Знамя», как и положено, внимательно разбирает художественные тексты, но признается, что главное для него здесь — не строгий филологический анализ, а попытка нарисовать цельные образы писателей, ни в чем друг на друга не похожих, понять логику и мистику их творческого и жизненного пути. Вполне понятно, что в этой галерее портретов и пейзажей находится место и автопортретам, так что перед нами — самая, может быть, исповедальная и самая «писательская» книга Сергея Чупринина.
Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Напомню, что и Щеглов вовсе ведь не хотел опорочить роман, вошедший в состав советской классики, или оттолкнуть от него читающую публику. Задача была принципиально иной — четко, крупно, не страшась полемических заострений, сформулировать позицию, противостоящую по многим пунктам авторской позиции Леонида Леонова, и тем самым создать ситуацию выбора, столь необходимую для нормального функционирования общественного мнения.
Главная же, повторяюсь, забота критика Марка Щеглова была как раз о том, чтобы это общественное мнение двигалось к все большей зрелости и раскрепощенности, воспитывая в себе чуткость к правде и иммунитет к фальши, питаясь не предрассудками и суррогатами, а «высококалорийной» духовной пищей.
Многое из того, о чем хлопотал критик, стало теперь аксиомой настолько, что, перечитывая сборник избранных работ Щеглова, мы утрачиваем порою чувство историзма и то дивимся немотивированной, на нынешний взгляд, запальчивости автора (ну стоило ли так пылко защищать то, что теперь — теперь, но не тогда! — в защите явно не нуждается?), то снисходительно улыбаемся, натыкаясь в статьях и рецензиях тридцатилетней давности на разного рода трюизмы, общие места, известные всем и каждому истины.
Щеглов, наверное, простил бы нам эту — в принципе-то, конечно, непростительную — забывчивость. Она вернее, чем что-либо иное, показывает необратимость позитивных сдвигов в литературном и общественном сознании, свидетельствует о том, что критика все эти годы не на месте топталась, а быстро ли, медленно ли, но дело делала, шла вперед — к новым рубежам и новым целям. И естественно, многое из бывшего на виду, выглядевшего крайне неординарно, уходило за эти годы в подпочву, как бы теряя авторство и приоритетные права, так что теперь нужны, пожалуй, специальные историко-литературные разыскания, чтобы определить, что ввел в нашу критику именно Марк Щеглов и что — его товарищи по поколению (В. Лакшин и Л. Аннинский, Б. Панкин и А. Бочаров, А. Турков и И. Виноградов, список можно продолжить), тогда же вступавшие в литературу.
Такие разыскания — не сомневаюсь — будут еще предприняты, ибо в фондах литературно-критической мысли советской эпохи действительно есть что искать и что исследовать. И все-таки главное — не в установлении приоритета, а в том, что статьи Марка Щеглова будут еще долго читать и перечитывать, всякий раз открывая в них что-то новое, ранее не приходившее на ум, отмечая удивительное созвучие размышлений недолго, зато ярко поработавшего критика с тем, что пока еще только стучится в нашу жизнь и в нашу литературу.
В этом я тоже не сомневаюсь.
Калита
…Как-то особенно трудно представить себе текущую, живую жизнь нашей литературы без живого повседневного участия в ней именно этого человека, критическое перо которого на протяжении трех десятилетий всегда откликалось на все живое и значительное в нашей прозе и поэзии.
К. СимоновСохранился снимок — Александр Макаров стоит на сцене лицом к участникам Первого съезда советских писателей.
Делегатом съезда юный избач из-под Калязина, не напечатавший к тому дню ни строчки, конечно, не был. Но судьба, видимо, предусмотрительна, и, если верить в предзнаменования, Макаров совсем не случайно попал в состав делегации читателей-колхозников, приветствовавших писательский съезд.
Тут, впрочем, не только перст судьбы. Это событие, в моих глазах, еще и емкая метафора трудной и счастливой жизни критика, который всегда — на протяжении трех десятилетий — был обращен лицом не к немногим, особенно даровитым или особенно близким по духу писателям, а ко всей советской литературе в целом и который неизменно говорил с литературой и о литературе не от себя лично, а как бы от имени и по поручению огромной читательской массы, ее демократического большинства.
Мемуаристы рассказывают, да и по статьям самого критика это понятнее понятного, что Александр Николаевич Макаров был человеком тонкого, великолепно разработанного вкуса и большой культуры, обладал цепкой любознательностью и могучей — едва не феноменальной — памятью на стихи и вообще на все, связанное с литературой, политикой, социологией, русской историей, умел к случаю «ввернуть» и цитату из полузабытого источника, и латинское изречение, и занятный, мало кому ведомый факт. До уровня его образованности, бесспорно, не каждый сегодняшний профессор-гуманитарий дотянется, а между тем в самой этой образованности, в типе ее остро чувствуется демократический, или, лучше на манер XIX века сказать, «разночинский» заквас, видна основательность не академическая, а скорее мужицкая, обеспеченная не средою или мамушками-нянюшками, а учебою на медные деньги, лишенная какой бы то ни было рафинированности и каких бы то ни было претензий на светскость или «аристократизм духа».
«“Знай наших, калязинских!” — любил он примолвить в час удачи…» — вспоминает Е. Ф. Книпович. Да и в статьях своих Макаров охотно, чуть только возможность возникнет, возвращался памятью к долгим деревенским вечерам детства, проведенным с чеховскими «Ванькой Жуковым» и «Каштанкой», к жизни рабочей московской окраины, где в тридцатые годы, в кругу фабрично-заводской и студенческой «комсы» прошла юность — «…в кипении молодых сил, в энтузиазме самопожерствования», в надежде на то, что «будущая Конная, улавливая запах, последним, может, рейдом двинется на запад!».
Ему дорога эта память — и своя личная, и общая для первого, быть может, поколения именно советской, трудовой, как ее называли, интеллигенции, не только не стыдившейся рабоче-крестьянского происхождения, но, напротив, гордившейся и им, и собственной укорененностью в «простонародной» массе.
С людьми этой формации, этого опыта и этих взглядов на жизнь Макаров постоянно поддерживал незримую духовную связь:
«…Для кого я пишу? у меня есть свой адресат, свой герой — человек моего поколения, это ему я растолковываю, его глазами смотрю и надеюсь быть понятым».
И характерно, что, отдавая должное И. Бабелю и И. Сельвинскому, влюбляясь в изысканный ахмадулинский стих и в парадоскалистски-нервную скоропись Л. Аннинского, высоко ценя «городскую», «книжную» культуру, душою критик тянулся все же к тем, в ком чувствовал своих по крови и типу жизненного поведения, к тем, в чьих книгах ощущалось родное ему демократическое и собственно мужицкое начало — от Шолохова, Твардовского, Исаковского до Астафьева, до прозаиков и поэтов, появляющихся «во глубине России».
Даже в Чехове — случай показательный — Макаров нашел
«…что-то такое, что роднило его с крестьянским миром, что побудило его, скромного на признания, однажды сердито выпалить: “…во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями”».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: