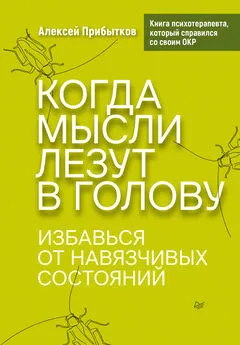Владимир Прибытков - Рублев
- Название:Рублев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1960
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Прибытков - Рублев краткое содержание
Биография гениального русского художника Андрея Рублева — это почти белое пятно на карте истории русской культуры XIV–XV веков. И никогда ни один исследователь не прорисует эти белые места, так как источники не сохранили жизнеописания создателя знаменитой «Троицы», а время не пощадило многие великолепные иконостасы, величественные стенные росписи.
Писатель, взявшийся за создание художественной биографии Рублева, имел право домыслить те факты, о которых молчат источники.
Книга В. Прибыткова не роман и даже не историческая повесть. Искусствоведческие главы, посвященные творчеству Рублева, сменяются жанровыми картинами, воспроизводящими нравы, быт, события грозных и славных лет конца XIV и первых десятилетий XV столетия. Писатель пытается заглянуть в думы, в сложный внутренний мир художника и сделать его образ близким и понятным нам.
Рублев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О горе, горе! Сокрушишься и возрыдаешь, аки Адам вне рая. Худо плоть устроена. Куда ни ступи — соблазн, а глаза ненасытные, словно нарочно, на запретные плоды таращатся, и в душе змеюка вожделений шевелится, так и сосет сердце, так и сосет…
Ключарь Успенского собора поп Патрикей мрачнеет. Медное, топором деланное лицо его окаменевает от горьких раздумий.
Вспоминаются попу тесная изба с гуляющим по потолку дымом, грязные, голозадые братья и сестренки, ползающие возле очага, мать, всегда пузатая, с буро-желтыми пятнами на лбу и на щеках, с полуоткрытым, как у задыхающейся рыбы, ртом, отец — деревенский священник, поставленный в пастыри из мужиков и обученный молитвам «с голоса» епископа, понеже не разумел в грамоте ни уха, ни рыла.
Вспоминаются рваные сапоги, тертая редька, пустые щи, щербатые миски, тюфяки с блохами, теленок, мычащий в загородке у двери.
Вспоминается, как отец, так до гроба и не разобрав, какая молитва к чему, крестя младенца, вопит из молебна на исход души, а новопреставленных напутствует псалмами о благодеянии божием [6] Факты, подобные этим, упоминаются в сочинениях церковных деятелей эпохи как пример «необразованности» низшего духовенства.
.
Возвратясь же домой, кряхтит и вместе с дьячком, таким же горемыкой, недоумевает, к чему бы это для новорожденных слова о злых и малых днях сложены.
Не догадавшись же, напивается, и плачет, и жалуется на судьбу, обрекшую его, коновала, в церкви служить.
Первый на всю округу отец коновал был и поначалу, когда сан принял, продолжал еще по привычке жеребцов холостить, кровь скидывать, завертки ставить, но пригрозили проклятием, и пришлось верное дело бросить, почему семья и впала в нужду и в отчаяние. Оглушила жизнь отца, так и помер, не опомнившись.
А самому Патрикею наука в голову через затылок входила. Сколько за учебу тычков да затрещин получено!
А первые-то годы священства? Нешто на молоке да меде прошли они? Мужик отпахал, отработал да и лежи, а ты, как проклятый, и паши, и сей, и жни, и требы совершай.
Слава богу, случай выпал, голос Патрикея проезжавшему через деревеньку протодьякону Дмитриевского собора отцу Филофею понравился, и попа для начала в церковь Святого Николы на посадской стороне перевели, а уж отсюда в Успенский храм взяли.
То восемнадцать лет назад было. А третьего года отдал душу господу прежний ключарь, Павел, и сделали ключарем Патрикея.
Грех нынче на судьбу жаловаться. Великое доверие ему оказали, ризницу со всеми сокровищами на руки передали, господне имущество охранять повелели. Достиг. Удостоился. А жизнь-то прошла. И немало скверны в ней было и посейчас есть. Перед господом же отвечать придется, сколь икон ни занавешивай… Как же ему, чистому, да при всех ангелах, при деве Марии о своем блуде расскажешь? Язык же не повернется!
Очнувшись, поп Патрикей вскидывает голову, гонит печальные мысли прочь и, напрягая зрение, вновь принимается следить за работающими в храме…
А там мастера уже сошлись в кружок, о чем-то толкуют и кучкой неторопливо пробираются к выходу, по пути отряхивая испачканные известью и пылью рясы…
«Майя 25 начата быть подписывати великая и соборная церковь Пречистыя Владимирския…» — вот и все, что говорит об этом летопись.
Историки искусства видят во владимирских работах Андрея Рублева умелое сочетание живописи с архитектурой храма, поражаются богатству характеров, данных мастерами во фресках, отмечают, что тут Рублев подошел к решению новой задачи, воспевая спокойствие, душевное благородство и целостность образов своих апостолов, ангелов и праведников.
Но думается и о другом.
Думается о той дерзкой, может быть заставившей его самого вздрогнуть, минуте, когда настойчивые раздумья и поиски вдруг разрешились простой, точной, ясной и никогда, никому в голову не приходившей мыслью: написать Страшный суд праздником.
Где, когда осенила Андрея Рублева эта острая, светлая мысль?
На лесах ли Успенского собора, где он, грязный и усталый, в последний раз окидывал взором гулкий храм?
В беседе ли с каким-либо владимирцем, рассказывавшим одну из бесчисленных легенд?
В келье ли перед сном, когда, закрыв глаза, полный дневных впечатлений, Андрей уже готовился уснуть?
Неизвестно.
Но такая минута была. В ней бессознательно слилось все: и надежда на будущее Руси, и встречи на Клязьме, и сама Клязьма с ее весной, и память о погибших за родину, и теплое чувство к товарищам, в желание чем-то помочь людям, чьи радости так непрочны, а горе устойчиво, и стремление возвысить души ободряющим словом, и вера, что слово это — слово самого Христа, сказавшего: «Придите ко мне все страждущие и обремененные…»
Была такая минута, великая для русского искусства, и Андрей Рублев испытал ее.
Знал ли он, что пойдет вразрез с обычными толкованиями темы «Страшного суда» в живописи многих столетий?
Да, знал. «Изрядный философ» не отдавать себе отчета в значении и немыслимой смелости нового замысла не мог.
Но он не только не побоялся смелости своих мыслей, он убедил в их правоте своих помощников, вдохновил Даниила и других друзей, заставил их загореться небывалой идеей, и это само по себе было уже подвигом художника.
— Гневен и страшен бог, — говорили византийские книжники.
— Милостив бог! — говорил простой русский народ, свято верящий в творца мира, но никогда не плошавший сам и готовый и недруга боем встретить и последнюю рубаху попавшему в беду отдать.
— Милостив! — повторил аомощникам Андрей.
И лихорадочное воображение его уже представляло, как звучно и радостно трубят архангелы, как устремляются к престолу вседержителя толпы народа, влекомые мудрыми апостолами, стремятся познать вечное блаженство праведные жены и как ликуют, словно возносясь ввысь, сами праздничные, певучие краски…
Можно не сомневаться, что в эти дни Андрея Рублева лихорадило. Что он уже не знал покоя, забывал об еде и сне. Что работал исступленно, с той неиссякаемой и неведомой равнодушным силой, какую дает уверенность не в себе, нет, а в необходимости твоей работы.
Каждый день приносит Рублеву новые и новые задачи, но цель ясна, и он решает их почти все, одну за другой с легкостью, какую приносит ясная цель.
Расположение сцен. Их единство при страстной характеристике каждой группы. Созвучия цветов. Но потом, при дальнейшем развитии собственного стиля, с его благородной культурой ясной, гибкой линии, легко и органично воспринятая у Феофана Грека выразительность широкого мазка, светотени и «пробела».
Это возмужание, которое уже не противится слепо всему, что нашел соперник, а способное с благодарностью взять у него лучшее для своих целей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
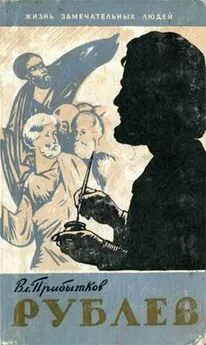

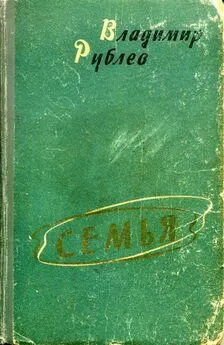
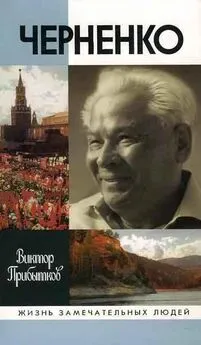
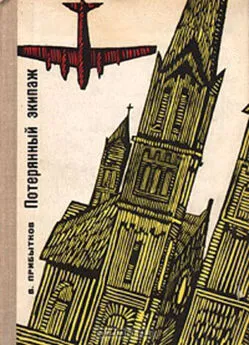
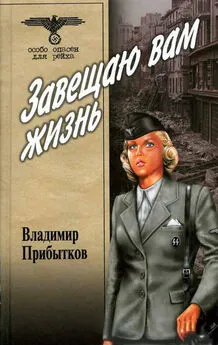

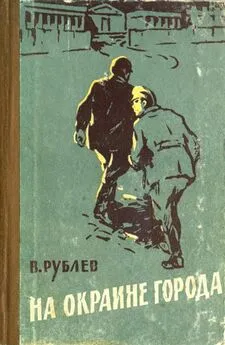
![Виктор Прибытков - Легенда старинного баронского замка [Русский оккультный роман, т. XI]](/books/1066971/viktor-pribytkov-legenda-starinnogo-baronskogo-zam.webp)