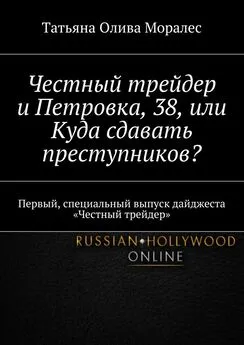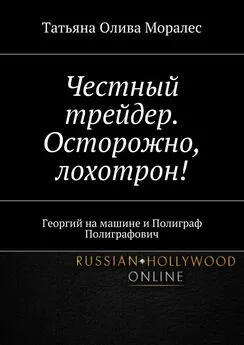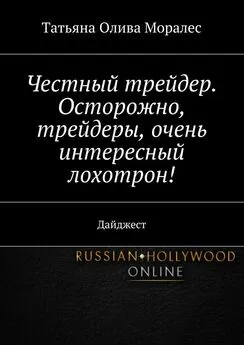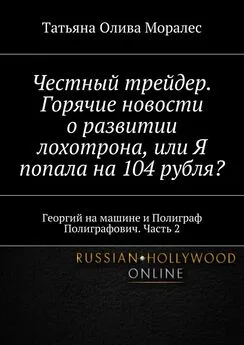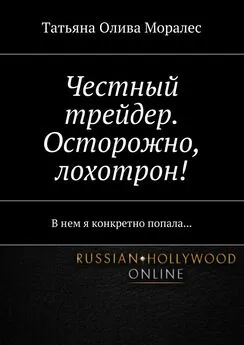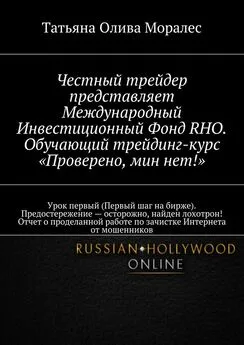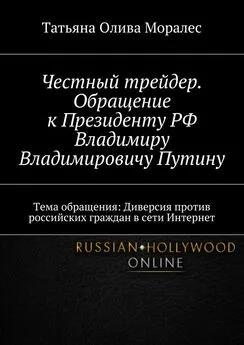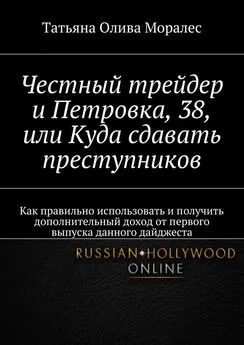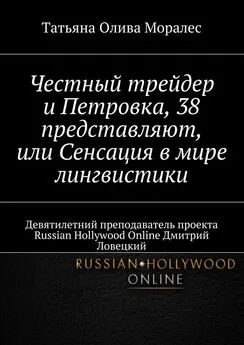Татьяна Михайловна Соболева - В опале честный иудей
- Название:В опале честный иудей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Михайловна Соболева - В опале честный иудей краткое содержание
В опале честный иудей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Александр Владимирович, насколько я могла судить по его скупым воспоминаниям, вырос в семье с иным укладом. Многое в ней делалось напоказ. Добродетели мужчины нередко определялись умением «добыть», «притащить в дом», и как можно половчее, побольше. Корнями такая мораль тоже уходила в скромное житье-бытье, но с иным к нему отношением. По-видимому, оттуда и шло у него чувство вины перед другими за нашу материальную скудость: он не добывал!.. Не давало покоя и ущемленное этим обстоятельством мужское самолюбие!
Мне трудно было согласиться, все это понять: мы словно пришли из разных миров. Мой мир и я - его производное - были в данном случае лучше, возвышеннее, тактичнее. Я не умела думать в такой плоскости, Я его не осуждала: к врожденному или привитому мне чувству долга надеждой на благополучное светлое будущее, как залог его, жили во мне поэтические строки, преподнесенные мне в начале нашего совместного пути:
Пусть небо обволакивает серой, несохнущей осенней простыней.
Но ни за что я не расстанусь с верой, покуда рядом ты идешь со мной.
Да, но жили мы не на необитаемом острове. Для окружающих нас не было секретом, что Александр Владимирович не имеет постоянной работы. В их головах не укладывалось: как это - муж не приносит домой пятого и двадцатого каждого месяца... пять или десять копеек из каждого заработанного им рубля. (Правда, о последнем они ничегошеньки не знали.) О том, что их эксплуатируют как ничтожных рабов, - понятия не имели. Но они работали! Вот что было их главным козырем. И вокруг меня «крещендо» зазвучал хор, распевавший на разные голоса две фразы: «Почему он не работает? Он должен работать!» Помните Мартина Идена?
И здесь сказался недостаток в моем воспитании: вместо того чтобы попросить всех не вмешиваться не в свое дело или, проще, послать всех куда подальше, я вооружилась вежливыми аргументами, терпеливо объясняла...
Тогда стало докучать мне хоровое исполнение «форте» другой фразы: «Он тебя недостоин!..» Господи! Но почему же?! Из-за чего?! Не очень-то лестное для меня признание, но под напором искусительного «пения» я вынуждена была обороняться сама перед собой контрдоводами: «Такую доброту, такую искренность и нежность, такую по-детски взаимную доверчивость я рискую потерять навсегда и впредь... не обрести никогда! А наша "кошка"?! Наше общее творение, редкостное и неповторимое, как новое чудо света!»
Не столь масштабно, как Мартин Иден, мой супруг, поэт Ал. Соболев, познал удачу, став автором прославленного произведения. Мне тогда припомнилось высказывание Л.Н. Толстого о силе самосохранения таланта, о его сверхспособности к выживанию. А что же мои радетели, а точнее - злейшие враги?
Оспаривать популярность «Бухенвальдского набата» было смешно: он не умолкал. А обыватель, ой, как боится попасть в дурацкое, нелепое положение. И теперь до ушей моих доносилось подкупаюше льстивое, угодливо-притворное: не будь меня, не добился бы поэт грандиозного успеха. Я с ними не спорила. И не потому, что лесть щекочет приятно самолюбие, такое мне чуждо. Я верила поэту. А он. умный и прозорливый, все расставил по своим местам, определил значение и моей помощи ему.
...Хоть век шлифуй слепой графит, пусть твой велик талант, графит, увы, не заблестит огнем, как бриллиант.
Из глины стали не сварить.
Из камня нити не скрутить.
Я не растрачивала силы и чувства в угоду человеку умеренных, средних способностей. Что ж, если поступилась чем-то в ущерб себе, то ради несомненного таланта, без сожаления помогла ему чем и как умела. Я не шлифовала слепой графит.
К счастью обеих «кошек», я слышала и слушала «благостное» пение родственников (за исключением мамы и папы, которые верили мне) ушами «кошки», «кошки» в двух лицах. И преображалось песнопение в нудный, несносный вой, от которого хотелось заткнуть «кошачьи» ушки. Наша «кошка», как бывалый штурман, вела нас по штормовому морю житейскому. Да, «кошка» жила, не подчиняясь ни годам, ни невзгодам, такая же милая, лукавая, с грустинкой - в глазах, очень-очень мудрая - нами нарисованный наш общий портрет. И прочность нашего союза была обусловлена верностью, общей приверженностью нас обоих правилам жизни, несколько отличным от человеческих.
Нам хорошо было в созданном нами оригинальном мире, куда мы вошли не актерствовать, но жить.
...Мы в лесу. Мы не молчали вдвоем. Наоборот, наши беседы были нескончаемы. И я процитирую здесь небольшой отрывочек из романа «Джен Эйр»: «Нас так же не может утомить общество друг друга, как не может утомить биение сердца... Мы неразлучны... Весь день проходит у нас в беседе, и наша беседа - это в сущности размышление вслух. Я всецело доверяю ему, а он мне».
Наше одиночество вдвоем - не фотография, но очень близкое подобие процитированного. Я постоянно опасаюсь быть неверно понятой и говорю о нас чужими словами, в частности и заимствованием у Ш. Бронте, в подтверждение достоверности моего рассказа. Бесконечно далекого от вымысла. Я хочу, добиваюсь подробностями нашей жизни, чтобы мой рассказ доходил до внимающего мне - правдой, чтобы прозрачным виделся источник благородства, чистоты и честности в творчестве поэта.
Итак, мы в лесу, идем «по целине» - таково неизменное желание, правило, прихоть, назовите как хотите, Александра Владимировича. Он бежал от асфальтовых ленточек и в лесопарке, будто они жгли ему ноги. Только по траве, среди деревьев и кустарников. По обыкновению, помните - «не в обход путями торными, а напрямик, по бездорожью»...
О чем мы говорили? Естественно, о том, что составляло круг наших общих интересов: это могло быть последнее, написанное Александром Владимировичем стихотворение, не бесспорная, на наш взгляд, статья в периодике, мнение какого-то писателя о предмете, нас занимающем, и т.д.
Александр Владимирович был поклонником многих живописцев прошлого и настоящего, мы старались не пропускать ни одной художественной выставки, и я с удовольствием слушала своеобразные, нестандартные, свои суждения поэта о произведениях художников. Когда он импровизировал, язык его как бы сопровождал богатство палитры выдающихся мастеров изобразительного искусства. Прибегая к невинным хитростям, я нередко уводила своего эмоционального супруга от излияний на политические темы. Равнодушным, говоря о политике, он быть не мог, горячился, сердился, начинал прибегать к резким выражениям. И тогда я обращала его внимание на попавшийся гриб, цветок, пролетевшую бабочку... Он незаметно уходил от политики, а я «убивала двух зайцев» сразу: избавляла его от ненужного нервного напряжения, а себя от осточертевшей действительности, даже в его художественном, живом, оригинальном изложении.
Чаще и предпочтительнее мы беседовали о музыке, о любимых исполнителях и нелюбимых. Наши музыкальные симпатии были схожими и споров не вызывали. Может быть, и следует упрекнуть нас в некотором консерватизме, но явное и постоянное предпочтение отдавали оба классической музыке во всем ее необъятном многообразии - и сочинительском и исполнительском. Поэт не набрасывался с бранью на «мастеров» безголосого речитативного пения, на трескучую и визжащую музыку, музыку нового времени. Он просто выключал радио или телеприбор, из которого она исходила. Несколько раз с сожалением говорил о том, что перекормленный такой «музыкой» смолоду человек никогда не востребует «бетховенов», потребность в которых необходимо воспитывать с детских лет. В противном случае музыкальные пристрастия или просто потребности вполне могут быть ограничены в лучшем случае «Пугачевыми» и «бернесами». Другой «еды» не захочется.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: