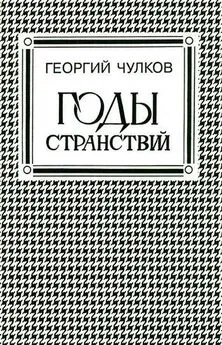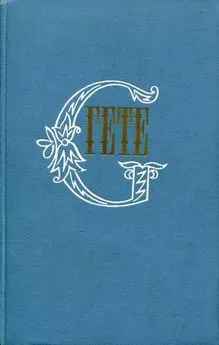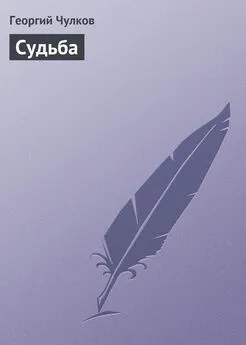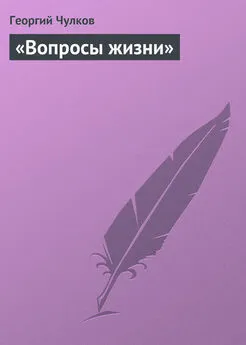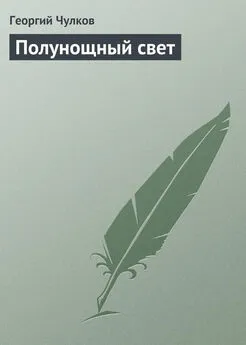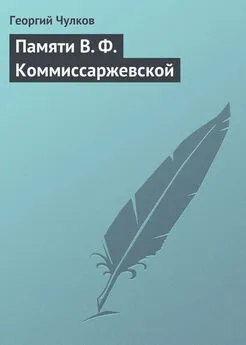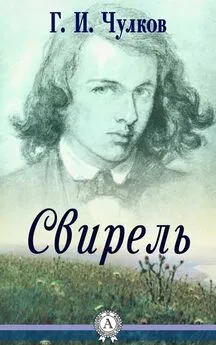Георгий Чулков - Годы странствий
- Название:Годы странствий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-88889-035-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Чулков - Годы странствий краткое содержание
Книга Г. И. Чулкова «Годы странствий» уникальна: основная ее часть представлена мемуарами, изданными малым тиражом более 60 лет назад и ставшими библиографической редкостью. Их дополняют письма А. Блока и В. Брюсова к автору, рисующие напряженную и противоречивую обстановку, сопровождавшую развитие символизма в России. В книгу включены хранившаяся в архиве автобиография Чулкова, два его очерка, напечатанных в периодике 1917–1918 гг., новеллы, а также повесть «Вредитель», раскрывающая трагедию писателя в Советской России.
Историко-литературный комментарий углубляет существующие представления о Серебряном веке в целом и о взаимоотношениях его представителей.
Вступительная статья, составление, подготовка текста, комментарии М. В. Михайловой.
Годы странствий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как раз в эти дни, когда я корректировал мою книгу, получил я известие о самоубийстве милого Мартынова, старика-шлиссельбуржца. Года не прошло, как я обнимал его, прощаясь, при моем отъезде из Якутска — и вот он уже ушел из нашего мира. Как странно, как непонятно было это самоубийство. Несмотря на шлиссельбуржское свое заточение, а потом якутскую ссылку, Мартынов был необычайно молод душою и горел страстным желанием вернуться в Россию и приняться за общественную работу. Он должен был вскоре выехать за пределы Якутской области: кончался срок его ссылки. Но этого не случилось. Обстоятельства, понудившие Мартынова покончить счеты с жизнью, были воистину удивительны.
Старик влюбился в жену одного ссыльного, и эта женщина поселилась с ним, покинув мужа. Колония политических вмешалась в это дело, и самым серьезным образом товарищи обсуждали вопрос, имел ли право Мартынов соблазнять жену политического ссыльного. Всем известна болезненная страсть изгнанников устраивать товарищеские суды по всякому поводу, иногда без достаточных оснований.
В эмиграции и ссылке люди всегда немного сходят с ума. Сумасшедший суд над Мартыновым довел несчастного до отчаяния и гибели. Вероятно, в иные годы, менее фантастичные, не было бы никакого суда, и за свое прелюбодеяние старик ответил бы лишь «на страшном суде», а не здесь, на грешной и страстной нашей земле. [Я не ручаюсь, что был «суд» с соблюдением обычных формальностей, но что роман Мартынова стал предметом споров и детальных обсуждений, это достоверно.]
Хотя моя жизнь в Нижнем Новгороде в условиях гласного надзора не представляла ничего особенно тяжелого, я все-таки временами роптал, завидуя тем писателям, которые свободно жили в столицах. К тому же моя жена решила кончить курсы и уехала в Москву держать экзамены. Однажды весною я так вознегодовал на обстоятельства, разлучившие меня с женою, что, недолго думая, решил бросить вызов судьбе и без всякого разрешения немедленно ехать в Москву.
Мост был разведен. Каждый день ждали ледохода. Река набухла. Трещал лед. Сообщение с московским вокзалом было прервано. Но это меня не остановило.
Захватив небольшой сак, я вышел из дому и направился к реке. За мною шел сыщик. Когда я вышел на Похвалинский съезд, шпик встретил товарища и, по-видимому, предложил ему следовать за мной. Теперь, оглядываясь, я видел, как двое идут за мною по пятам.
Подойдя к берегу, я неожиданно наткнулся на пикет речной полиции.
Рыжеусый стражник, заметив, что я смотрю на реку, сказал строго:
— Нельзя, нельзя… Хода нет…
— Мне самому жизнь дорога, — засмеялся я, подходя ко льду. — Я только посмотреть…
Постояв так минуты две, я оглянулся. Сыщики разговаривали со стражником, уверенные, должно быть, что я не пойду по тонкому и хрупкому льду, изборожденному черными трещинами. Но мною овладел какой-то веселый азарт, и я бросился бежать. [138] Этим эпизодом завершается автобиографическая поэма Чулкова «Весенний лед».
Не успел я пробежать и пяти саженей, как позади меня затрещал лед и зашумела вода. С берега кричали растерявшиеся стражники и сыщики, а я бежал зигзагами, мимо черных дыр и прорубей, по хрустевшему под ногами льду. Утром я был в Москве и два дня мешал жене готовиться к экзаменам.
В моем деле, хранящемся теперь в Архиве Революции, перечисляются места, которые я посещал в Москве во время моего нелегального там пребывания. Охранное отделение отмечает, что я приезжал из Нижнего с целью агитации. Но я, по правде сказать, на сей раз, кажется, мало занимался революционными делами.
«Новый путь»
Все ходатайства моего отца о разрешении мне жить в Москве оказались тщетными. Вел. Кн. Сергей Александрович [139] Вел. кн. Сергей Александрович (1857–1905) — сын императора Александра II, московский генерал-губернатор в 1891–1905 гг., убит эсером Иваном Каляевым.
упорно отказывал старику в его просьбах. Вскоре отец мой умер. С его кончиною порвана была моя последняя связь с прочным бытом, с семейной традицией, с уютом и тишиною.
В Петербурге в то время жила моя тетка, С. А. Москалева, вдова, бывшая тогда начальницей Высших женских курсов. У этой моей сановной тетки, ныне умершей, были связи в правительственных кругах. И вот она, хотя у меня с нею никогда не было и не могло быть по многим причинам близких отношений, принялась энергично за меня хлопотать «ради памяти покойной Шуры», т. е. ее сестры, моей матери. Хлопоты увенчались успехом, и мне было разрешено поселиться в Петербурге.
Я родился и вырос в Москве. В Петербурге у меня не было ни одного знакомого. Когда мы с женой приехали в столицу и наняли небольшую комнату на Литейном проспекте, в кармане у меня было рублей сорок. Никаких источников для материальной поддержки у меня не было. Когда-то, будучи еще гимназистом, а потом студентом первого курса, я зарабатывал деньги, сотрудничая в «Детском отдыхе», коего редактором был H. A. Попов, [140] Попов Николай Александрович (1871–1949) — режиссер, драматург, театральней деятель, руководил в начале XX в. «Народным театром» Василеостровского общества народных развлечений, осуществлял постановки в театре В. Ф. Комиссаржевской. В 1930–1940-е гг. — режиссер Малого и Большого театров в Москве.
впоследствии небезызвестный театральный деятель. Я возлагал все мои надежды на этот петербургский журнал и отправился в редакцию, уверенный, что меня примут там с распростертыми объятиями. Но — увы! — H. A. Попов, как оказалось, покинул журнал, передав его своей супруге, которая встретила меня, хотя и вежливо, но сухо, и я понял, что рассчитывать на «Детский отдых» как на источник дохода было легкомысленно.
Я вышел из редакции подавленный и смущенный. Мне не хотелось идти домой и огорчать жену печальной вестью о неудаче. Я стал бродить по городу, размышляя о своей судьбе. Петербург, который впоследствии очаровал и пленил меня, казался мне в те дни скучным и неприветливым. Был сезон стройки и ремонта. Леса вокруг домов; перегороженные тротуары; кровельщики на крышах; известка; маляры, висящие в ящиках, подвешенных на канатах; развороченные мостовые — все это было буднично, уныло и внушало человеку чувство его собственной ненужности.
Очутившись на Васильевском острове, я зашел в немецкую пивную и спросил себе кружку пива.
«Что делать? И за какую литературную работу приняться? — думал я. — Стихи вообще никому не нужны, а я к тому же символист. Не понесу же я мои поэтические опыты в „Русское богатство“. Как же быть? В Петербурге, правда, есть „Новый путь“, [141] Подробно общественно-политическая программа и литературно-критическая позиция журнала освещена в статьях Д. Максимова «Новый путь» (Евгеньев-Максимов В. и Максимов Д. Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы. Л., 1930) и И. В. Корецкой «Новый путь», «Вопросы жизни» (Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890–1904. М., 1982).
где печатают символистов, но там в политическом отделе такая неразбериха, что ничего понять нельзя, а ведь мне, революционеру, не полагается печататься в сомнительных органах».
Интервал:
Закладка: