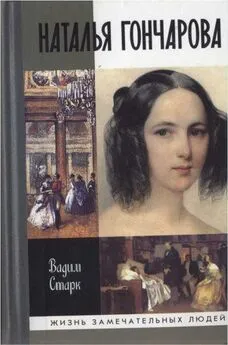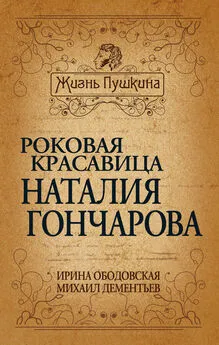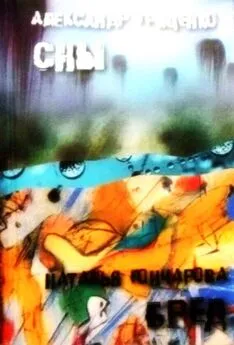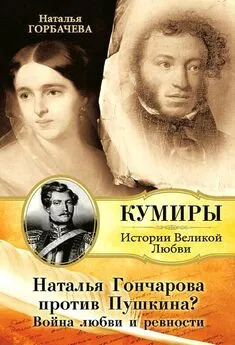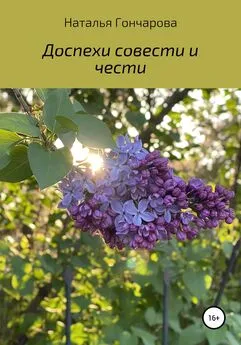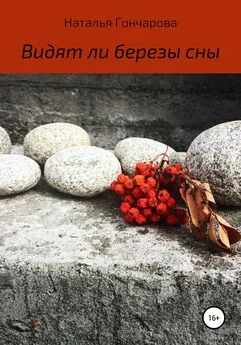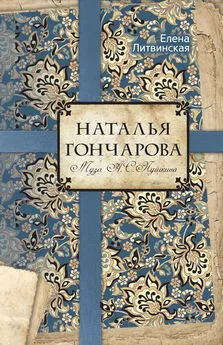Вадим Старк - Наталья Гончарова
- Название:Наталья Гончарова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03325-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Старк - Наталья Гончарова краткое содержание
Все, кто знал Наталью Гончарову, сходились в одном: она была изумительной красавицей. Свет ревниво следил за ее успехами, пристально всматривался в ее поступки. Сплетники злословили по поводу ее отношений с Дантесом, приписывали ей равнодушие и прозвали «кружевной душой». Даже влюбленный в нее Дантес отказывал ей в уме. Многие считали ее виновницей гибели Пушкина. Сам же он называл Натали не только своей Мадонной, но также «женкой» и «бой-бабой». Она воспитала семерых собственных и троих приемных детей.
Жизнь Натальи Николаевны, в 18 лет ставшей женой первого поэта России, а в 24 года оставшейся вдовой, по сей день вызывает споры, рождает мифы и разноречивые толки. Книга доктора филологических наук Вадима Старка рассказывает о женщине, ставшей источником вдохновения для Пушкина, о ее истинной роли в истории роковой дуэли, о дальнейшей судьбе той, которой Пушкин писал: «С твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — а душу твою люблю я еще более твоего лица».
Наталья Гончарова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Плетнев постоянно бывал и у самой Натальи Николаевны, а она, в свою очередь, наносила ему визиты. Об одном таком посещении Плетнев дает отчет Гроту 21 марта 1841 года: «Гораздо интереснее был визит Натальи Николаевны Пушкиной (жены поэта) с ее сестрой. Пушкина всегда трогает меня до глубины души своею ко мне привязанностью. Конечно, она это делает по одной учтивости. Но уже и то много, что она старается меня (не имея большой нужды) уверить, как ценит дружбу мужа ко мне…»
Проведя лето и большую часть осени 1841 года в Михайловском, Наталья Николаевна с детьми и сестрой вернулись в Петербург 26 октября 1841 года. Поселились они в квартире, которую им опять присмотрела поближе к себе тетушка Екатерина Ивановна. На этот раз они жили врозь с Местрами, что, скорее всего, было желанием Натальи Николаевны. Новая петербургская квартира располагалась неподалеку от шепелевского дома, в хорошо знакомом Наталье Николаевне районе, у Конюшенного моста, в доме Китнера. Это был один из самых старых домов, расположенных в этих кварталах. В 1718 году участок под застройку был пожалован камердинеру Петра I Козьме Спиридоновичу Ливанову. Впоследствии владельцы менялись: Ливановых сменил Ф. Ф. Крузе, его — Прокофий Акинфиевич Демидов, того, в свою очередь, Савва Яковлев и т. д., пока в конце 1830-х годов владельцем дома не стал ламповый мастер Себастьян Китнер, отец известного архитектора Иоахима Китнера. В 1840 году дом перестраивал архитектор Август Иванович Ланге, помощник А. И. Штакеншнейдера. Так что Наталья Николаевна въехала в старинный, но только что обновленный дом. Он был тогда четырехэтажным; позднее, в 1870-х годах, его достроили пятым этажом по проекту академика архитектуры В. Ф. Геккера.
Пользуясь ближайшим соседством, Екатерина Ивановна каждый день в семь часов вечера приходила навестить племянниц и детей или только детей, если старшие обитательницы квартиры были в отсутствии. Дом выходил окнами на церковь Спаса Нерукотворного Образа при Конюшенном придворном ведомстве, так что Наталье Николаевне ежедневно вспоминался день отпевания в ней Пушкина. Теперь она могла ежедневно посещать этот памятный для нее храм и приводить в него детей. Дом, в котором она поселилась, соседствовал с тем, в котором некогда жил юный Пушкин, привезенный дядюшкой Василием Львовичем из Москвы для определения в Лицей. Дом, где жила вдова с детьми, сейчас имеет адрес Мойка, 11. Из окон ее квартиры хорошо просматривался дом на Мойке, 12, напоминая о четырех месяцах, которые они с Пушкиным прожили в нем, и двух днях, когда он здесь умирал.
Неподалеку, в Литейной части, на Гагаринской улице, жили тогда Вяземские и Карамзины, которых постоянно по старой дружбе, а теперь и по родству посещала Наталья Николаевна. Продолжала она видеться и с другим другом Пушкина, Плетневым. 1 апреля 1842 года он писал Гроту: «В понедельник я обедал у Natalie Пушкиной с отцом и братом (Львом Сергеевичем) поэта. Все сравнительно с Александром ужасно ничтожны. Но сама Пушкина и ее дети — прелесть».
В этой квартире на Конюшенной Наталья Николаевна прожила полгода между двумя поездками в Михайловское, и сюда же она вернулась после второго там пребывания.
Уже из Петербурга она написала брату 17 сентября 1842 года: «Ты, может быть, будешь удивлен, дорогой, добрейший Дмитрий, увидев петербургский штемпель на моем письме. Столько разных неприятных обстоятельств, и самых тяжелых, произошли одни за другими этим летом, что я вынуждена была ускорить на два месяца мое возвращение. Это решение было принято после письма графа Строганова, который выслал мне 500 рублей на дорогу (зная, что у меня ни копейки), настоятельно рекомендуя мне вернуться незамедлительно». Больше Наталья Николаевна уже никогда не приедет в Михайловское.
Возвращение в свет
Пришла пора подумать об образовании подраставших детей. О планах Натальи Николаевны Плетнев писал Гроту 25 ноября 1842 года: «Чай пил у Пушкиной (жены поэта). Она очень мило передала мне свои идеи насчет воспитания детей.
Ей хочется даже мальчиков, до университета, не отдавать в казенные заведения. Но они записаны в пажи — и у нее мало денег для исполнения этого плана».
Сыновья Пушкиных были зачислены в пажи по милости Николая I, встреча с которым, рано или поздно, была неизбежной, раз Наталья Николаевна жила в Петербурге. Произошла она случайно под Рождество, 24 декабря 1841 года в английском магазине на Невском проспекте: выбирая подарки для детей, вдова Пушкина неожиданно столкнулась с императором, также зашедшим купить подарки для своих домашних. Они не виделись со времени кончины поэта. Милостиво поговорив с вдовой, Николай I через ее тетку, фрейлину Е. И. Загряжскую, пригласил Наталью Николаевну вновь бывать при дворе.
Так Наталья Николаевна постепенно начинает появляться в свете. Одно из таких появлений на костюмированном балу в Аничковом дворце было настоящим триумфом, напомнившим ей былые времена. К этому балу Екатерина Ивановна подарила племяннице наряд в древнееврейском стиле, напоминавшем одеяние Ревекки на известной картине итальянского живописца XVII века Ф. Солимена «Ревекка у колодца». Он состоял из длинного фиолетового бархатного кафтана, широких палевых шаровар и легкого покрывала из белой шерсти, закрепленного на затылке. Ему соответствовала и прическа, по поводу которой парикмахер-француз, ее создавший, заметил с восхищением: «Ce qu’il faut être sûre de sa beauté, pou oser arborer semblable coiffure! [143] Как надо быть убежденной в своей красоте, чтобы дерзнуть появиться в подобной прическе! (фр.).
»
Наталья Николаевна, появившаяся в этом костюме, приковала к себе всеобщее внимание, что заставило ее искать укромный уголок, который пришлось покинуть с выходом царской семьи. Когда начались танцы, Николай I, отыскав ее, подвел к императрице, сказав при этом громко:
— Regardez et admirez!
— Oui, belle, bien belle en vérité! C’est ainsi que votre image aurait di passer à la postérité! [144] Смотрите и восхищайтесь! — Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! Ваше изображение таким должно бы было перейти потомству! (фр.).
Свой рассказ дочери об этом происшествии Наталья Николаевна завершила словами:
— Мне кажется, легче было бы провалиться сквозь землю, чем выстоять перед всеми, точно впившимися в меня взглядами.
Эффект был таков, что императрица Александра Федоровна выразила желание видеть ее портрет в этом наряде, что тотчас после бала и было исполнено. По словам Араповой, придворный художник написал акварельный портрет Натальи Николаевны в этом библейском костюме, якобы для альбома императрицы. Однако этот портрет нам неизвестен.
Зато к 1842 и 1843 годам относятся портреты Натальи Николаевны, выполненные Вольдемаром Гау. На акварели Гау она представлена по пояс с поворотом в три четверти влево в белом бальном платье, обшитом по вырезу рядом оборок, украшенном большим аграфом [145] Аграф (фр. agrafe — крючок) — застежка или пряжка в виде броши для платьев, шляп, башмаков. (Прим. ред.).
, и светло-серой накидке, подбитой горностаем. Волосы, расчесанные на прямой пробор, спускаются по сторонам длинными локонами, на затылке — изящная маленькая шляпка черного бархата с белым страусовым пером.
Интервал:
Закладка: