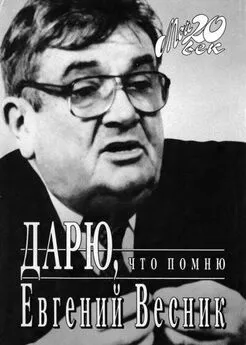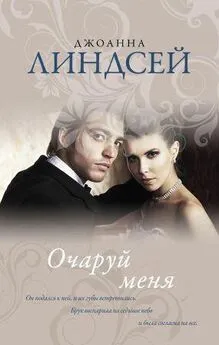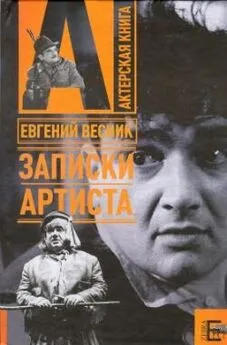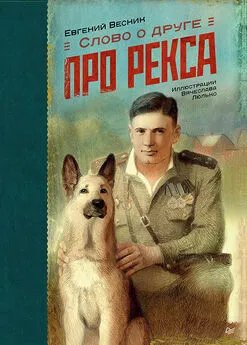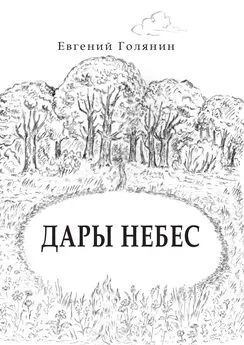Евгений Весник - Дарю, что помню
- Название:Дарю, что помню
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-7027-0154-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Весник - Дарю, что помню краткое содержание
В своих воспоминаниях народный артист СССР Евгений Весник рассказывает о своем детстве, фронтовых годах, работе в театре и кино, о гастролях, друзьях и коллегах.
Дарю, что помню - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Играем спектакль «Иван» по пьесе А. Кудрявцева. Действие происходит в русской деревне, в нашем военкомате, райисполкоме, в сельском доме героя пьесы. Трудно было предвидеть тот активный доброжелательный прием, который был оказан спектаклю, содержание которого ну никак не монтировалось с мексиканским образом жизни, далеким от всяческих русских проблем, во многом надуманных, нелогичных, самим нам непонятных и обрыдлых. И вот поди ж ты. И аплодисменты, и «браво»!
Я предстал перед потомками ацтеков в роли советского генерала, но не трафаретного героя, спасителя-мудреца, проповедника всепобеждающей идеологии великих Маркса-Энгельса-Ленина (Сталин из «святого» ряда «выпал»), а сердечного человека, способного от чувства своей вины перед другим человеком не постесняться своих слез, способного покаяться в грехах, попросить прощения и даже, в порыве откровения, вдруг перекреститься. Мне пригодился опыт воплощения на сцене Волгоградского драмтеатра в пьесе Ю. Чепурина «Сталинградцы» маршала В. И. Чуйкова (о чем я расскажу в следующей главе) и воспоминания о моем командире 5-й гвардейской артбригады Александре Федоровиче Синицыне. Оба – и маршал и полковник – были достойны того, чтобы быть прототипами моего художнического, обобщенного сценического образа генерала, так как являли собой – Чуйков по рассказам, а Синицын по моим личным наблюдениям – Человеками большой, доброй души, а следовательно, богоугодными, что всегда достойно и подражания, и преклонения.
После спектакля за кулисы под ручки привели старенькую, очень бодрую и симпатичную зрительницу, оказавшуюся русской эмигранткой, покинувшей Россию сразу после «окаянных дней». Лет ей было, на глазок, ну о-о-очень много! Глядя на меня в старинный бинокль-лорнет, представилась:
– Я – Наташа из Мытищ. Головины мы. У нас свои дома и лабазы были. – Она говорила с легким акцентом, то ли испанским, то ли английским, а скорее всего, и с тем и другим. – Мне через три месяца 90 лет. Да… да… Никогда не думала, что увижу на сцене частичку России, и так растрогаюсь, ну прямо до слез. Спасибо Вам. Вы так играли! Вы покорили меня! Да и всех. Благодарю. Я и предположить не могла, что советские генералы одеты ну совсем как белогвардейцы. Ах, как Вы играли! Вы меня привели в экстаз…
– Мадам, – я стеснительно поклонился, – для меня это высший комплимент!
– В духовный, – засмеялась Наташа из Мытищ. – В духовный! А Вы знаете, я с Вертинским целовалась. – И она напела какую-то неизвестную мне мелодию, затем игриво засмеялась и добавила: – Он такой большой и очень милый. Скажите, а Колчак жив?
На этот ее последний вопрос никто не мог ответить, и поэтому он как бы повис в воздухе.
– Натали, пора домой! – сказал вошедший мужчина, выглядевший лет на тридцать моложе Натали.
– Мой муж, – представила вошедшего гостья, – тоже русский. Да хранит Бог Ваш театр.
Пребывание в одной из уютных, среднего шика и блеска гостиниц города Гуанахуато подарило мне знакомство и весьма содержательное общение со швейцаром при входе – мужчиной 65 лет, ацтеком, со смуглым мужественным лицом, добрейшим выражением глаз и атлетическим телосложением.
В холле гостиницы на полукруглом, приставленном к стене диване круглосуточно – за исключением промежутка между тремя часами ночи и семью утра – восседали за чашечками кофе, бутылочками воды и даже бокалами вина переводчики практически со всех ходовых в мире языков на испанский: человек 5–6, не более, но владевших, как минимум, 3–4 языками каждый! Обращение постояльцев к швейцару или к находившемуся недалеко администратору отеля тотчас же переводилось, и диалог разноязычных элегантно переходил в диалог понимающих друг друга собеседников.
Моя дружба со швейцаром началась с того, что он научил меня устанавливать на ручных электронных часах, впервые мною приобретенных, обозначение года, месяца, дня и времени. Ну, как отблагодарить за урок? Конечно, посредством приглашения к стойке бармена.
– Два по сто водки, бутылка пива, орешки, – сказал я и тут же был переведен на испанский. Глянув на переводчика, добавил: – Три по сто.
Переводчик отрицательно замотал головой и с ужасом в глазах почти на чистом русском отреагировал:
– Нет, нет! Что вы! Это много. Мы не можно так много. Половинка. Швейцар может – он из степей, из пустыни, там крепкий мужчина. Мне пятьдесят грамм.
– Хорошо! А бармен тоже из степей?
– О, да, да!
– Значит так. Пусть даст нам бутылку водки, а там видно будет…
За разговорами бутылка была опустошена, орешки съедены, но самое примечательное – переводчик в пылу своей культуртрегерской миссии и не заметил, как в деле опустошения сосуда принимал участие на совершенно равнопраммной с нами основе и – ничего! Все было нормально! Когда в конце нашей беседы я спросил, не из степей ли и он тоже, он ответил, что родился на самом краешке пустыни. А диалоги наши были заслуживающими того, чтобы их привести, тем более что они сохранились на моем диктофоне.
Швейцар. М-да-а-а… Наделало беды землетрясение. Но ничего, народ наш трудолюбивый, все поправит, все восстановит. Часто слышу: «Мир спасет красота!» Нет. Мир спасет, нет-нет, не Бог, а труд и справедливость.
Я. А что такое справедливость?
Швейцар. Люби ближнего – вот тебе и справедливость. Помогай другому.
Я. Что самое-самое лучшее в нашей жизни?
Швейцар. Сказки.
Я. А самое-самое плохое?
Швейцар. Смерть.
Я. Самый плохой человек?
Швейцар. Безбожник.
Я. А самый лучший?
Швейцар. Умеющий радоваться успехам других людей.
Я. Самый красивый?
Швейцар. Самый добрый. Он может быть внешне даже уродом.
Я. Самый некрасивый?
Швейцар. Самый жадный. Он может быть внешне очень симпатичным.
Я. Любимое занятие?
Швейцар. Вспоминать все хорошее!
Я. Самое нелюбимое занятие?
Швейцар. Ругать людей! И еще… смотреться в зеркало! Там видишь не то, что о тебе говорят, или не то, что хотелось бы видеть.
Я. Самое-самое трудное?
Швейцар. Самое трудное распознать честную, порядочную женщину. Это так же трудно, как на глаз определить вкус груши.
Я. А самое легкое?
Швейцар. Ничего не делать и стать бедным.
Я. Наших из Малого театра уже всех узнаете?
Швейцар. О! Да, да. Легко узнаю…
Я. Нравятся Вам наши люди?
Швейцар. И да, и нет. Нравятся потому, что, в отличие от всех туристов, они тихие, скромные, послушные. Не нравятся своей скованностью, необщительностью, бедностью, стадностью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: