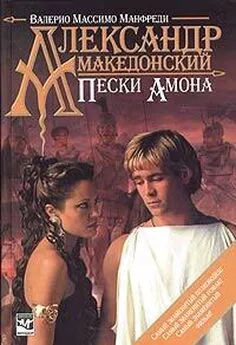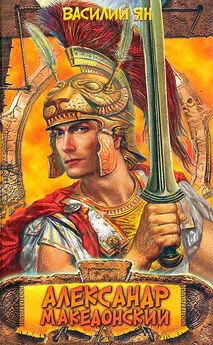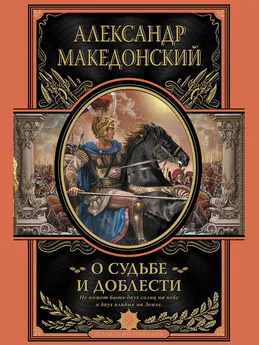Фриц Шахермайр - Александр Македонский
- Название:Александр Македонский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ростов н/Д: «Феникс», 1997-576 с.
- Год:1997
- ISBN:5-85880-313-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фриц Шахермайр - Александр Македонский краткое содержание
Книга — итог многолетних исследований австрийского историка античности Ф. Шахермайра, связанных с личностью и деятельностью македонского царя Александра. Она охватывает все периоды жизни Александра Македонского, дает представление о той обстановке, которая окружала Александра с детских лет, рассказывает об истории Македонии, о географических и социально-экономических особенностях этой страны.
Сокращенный перевод с немецкого М.Н. Ботвинника и Б. Функа
Сканирование и обработка: nitebar
Александр Македонский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На рельефе в Персеполе изображена сцена царской аудиенции. Пришелец уже поднялся после падения ниц, но спина его все еще согнута. В этот момент он посылает царю воздушный поцелуй. Здесь также между ним и владыкой стоят две подставки со священным огнем. Таким образом, возникает предположение, что уже у персов церемония проскинезы не обходилась без огня. Если огонь был обязателен, то не исключено, что уже у иранцев наиболее яркие черты древневосточного поклонения царю в том виде, как мы их находим, например, у ассирийцев, были смягчены.
Принимая во внимание все эти соображения, неудивительно, что Харес упоминает в связи с проскинезой алтарь со священным огнем. Если на пиру, о котором мы говорим, надо было падать ниц перед алтарным огнем, то это, вероятно, по мнению царя, могло сделать процедуру в целом более приемлемой для македонян и греков.
Впрочем, остается еще неясным, не было ли перенесение принятой у иранцев на аудиенциях проскинезы в пиршественный зал нововведением Александра, соединившим македонские, греческие и иранские элементы. Остается нерешенным также вопрос, каким образом царь сумел соединить эти разрозненные элементы.
А теперь вернемся к тому, как все совершилось. В ходе событий нетрудно разглядеть инициативу царя, который привлек к совету ближайших македонских и персидских друзей и был уверен, что все задумано превосходно. Теперь важен был тон, в каком пройдет церемония. Удастся ли вложить в нее с самого начала столько увлекающей силы, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление самых упорных? Молено было надеяться на успех лишь в том случае, если удастся избежать какой-либо помехи.
Александр вошел в зал, пиршество началось. Вот наступает минута, которой ждали с таким напряжением. Царь уже поднял свой кубок. Первым, за кого он пьет, и первым, кто исполняет ритуал, оказывается наверняка Гефестион. За ним следуют другие. Сперва, по-видимому, македоняне, за ними греки, потом иранцы. Но вот наступает очередь одного из самых упрямых людей — Каллисфена. Его пригласил Гефестион, а возможно, и сам царь. Александр пьет за его здоровье. Ученый поднимается, подходит к алтарю. И в эту минуту Александр оборачивается к Гефестиону, как будто для того, чтобы перемолвиться с ним словом. Был ли царь не уверен в греке и старался не заметить, с какими отступлениями будет исполнена церемония? А Каллисфен медлит, выпивает кубок, затем, так и не совершив коленопреклонения, приближается к царю. Заметил Александр или предпочел не заметить то, что видели все? Вот он уже милостиво склоняется для поцелуя, но тут какой-то льстец выкрикивает: «Не дари, о царь, поцелуй тому, кто не почтил тебя!» Царь в смущении; он не слишком царствен в эту минуту и отказывает в поцелуе. Тогда Каллисфен громко заявляет: «Что ж, значит, одним поцелуем меньше».
Занавес снова закрывается. Мы не знаем, чем кончился вечер. Нам только сообщают (несомненно, основываясь на свидетельствах Хареса) об упреках, с которыми царь обрушился на Гефестиона. Тот защищался, утверждая, что вина целиком лежит на греке, не сдержавшем обещания. Не было ли это, как полагают многие исследователи, ложью и не пригласил ли Гефестион греческого педанта наудачу? Не обмануло ли его то, что Каллисфен на этот раз принял приглашение без возражений? Или грек действительно дал согласие — возможно, именно для того, чтобы иметь случай публично выказать свое несогласие? Не исключено, что сперва Каллисфен поддался уговорам и лишь в последний момент, стоя перед алтарем и заметив, что царь отвлекся, передумал. Нам не найти ответов на все эти вопросы. Верно лишь одно: план ввести в обиход проскинезу провалился. И провалился так основательно, что Александр никогда больше к нему не возвращался.
Если мы представим себе, однако, как важен для Александра был успех этого дела, которым определялось его будущее положение в империи, то нам станет ясно, что причина провала всей затеи вряд ли заключалась в дерзкой выходке грека. Окончательное решение зависело от македонян, которых проскинеза затрагивала более других. Из источника, не вполне надежного, но любопытного, мы узнаем, что один из македонских вельмож допустил открытое глумление над церемонией, когда какой-то перс выполнил проскинезу не совсем ловко [248] Arr. IV, 12, 2; Curt. VIII, 5, 22 и сл.; ср.: Plut. AL, LXXIV, 3 и сл.
. Если верить этому источнику, то его можно совместить с версией Хареса: церемония продолжалась, невзирая на дерзость Каллисфена. Но настроение переменилось. То, что сначала казалось торжественным и отчасти завораживало даже недовольных, теперь всеми воспринималось как дешевый спектакль. Простое слово Каллисфена освободило умы от тяжкого давления царской воли. Александра окатило волной неодобрения. А когда какой-то перс — возможно, толстяк — неловко преклонил колена, кто-то из македонян и не подумал сдержать свой смех.
Неожиданное это происшествие, выражение затаенной насмешки на большинстве лиц, по-видимому, окончательно вывели из себя Александра. Теперь уже трудно сказать, в чем выразилось его раздражение. Неизменно лояльный Арриан говорит об этом односложно, между тем как Курций рассказывает в этом месте об одном из ужасающих припадков царского гнева, доходившего до постыдных действий [249] Arr. IV, 12, 2; Curt. VIII
. Впрочем, сообщения Курция довольно часто оказываются преувеличенными. Надежнее всего прийти к выводу, что первоначальное несогласие перешло под конец в резкий диссонанс. Все, что мы знаем о характере царя, вполне позволяет предположить это. Александр был бог в творческих деяниях, но если он наталкивался на сопротивление, то страстный темперамент уводил его очень далеко от божественного спокойствия небожителей. Вот и на этот раз неудача его затеи вызвала у него чувство горечи; это было еще обиднее, чем упрямство эллинов или насмешка македонян. К нему добавилось ощущение стыда перед восточной свитой, а в конечном счете и перед самим собой.
Оставался еще Каллисфен. В нем Александр видел главного виновника этого происшествия. Не так уж и важно для нас выяснить причины поведения Каллисфена перед лицом более значительного факта: Александр, затевая все это предприятие, шел на любые уступки, и Каллисфен тоже старался, пока мог, идти за царем. Несмотря на взаимную готовность к уступкам, им в конце концов суждено было вступить в непримиримый конфликт. И мы вновь сталкиваемся с тем, чему учит нас история: даже добрая воля не способна соединить различные формы мировоззрения — стремление к абсолютной власти и человеческое достоинство, которое дарует свобода.
Несомненно, в наше время легче увидеть и оценить величие Александра. Однако и то впечатление, которое царь производил на своих современников, было огромно. Именно так было с армией: воины редко видели царя, а если сталкивались с ним, то всегда как с героем на поле боя, выступал ли он как могучий полководец или как их боевой товарищ. Именно в последнем качестве Александр умел дружески обратиться к простому воину, поддержать ослабевшего, пригласить замерзшего к своему огню и вообще не упускал случая завоевать любовь воинов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: