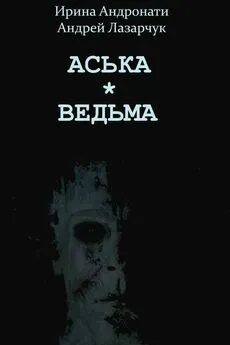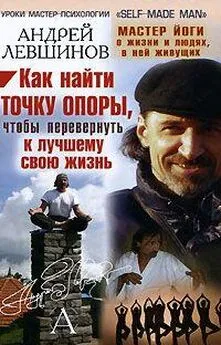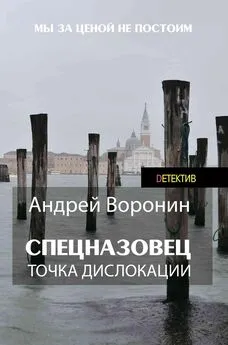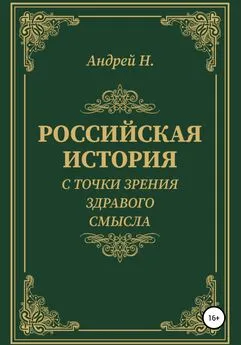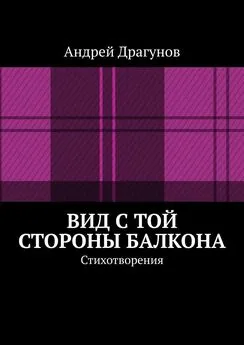Андрей Балдин - Протяжение точки
- Название:Протяжение точки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Балдин - Протяжение точки краткое содержание
Протяжение точки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Изначально круг константинопольских праздников начинался 1 сентября по старому стилю, им же и заканчивался. Последним большим праздником в том календаре было Преображение — 5 августа по старому стилю, 19-го по новому.
Затем этот календарный круг «перекатился» к нам на север. Здесь в его устройство были внесены неизбежные поправки: северный мир живет по своему природному графику. У нас зимы больше, чем лета, белого цвета (снега) много больше зелени.
Со временем новогодний праздник переехал у нас на 1 января, добавились новые церемонии, многие были позабыты. Но в целом строение «праздничного дома» осталось то же: оно округло, циклично (поместительно для души).
В переносе новогоднего (Рождественского) праздника на конец декабря была своя логика. Год начинался с минимума света, с точки зимнего солнцестояния — символом которой была Рождественская звезда — и далее последовательно «рос» к максимуму света в точке летнего солнцестояния: конец июня, Иванов день, Рождество Иоанна Крестителя. После этого год вместе со светом убывал, сжимался обратно в точку, оборачивался звездой в небесах.
То есть: не просто округлое помещение было выстроено для общей суммы праздников, но «живое», пульсирующее, совпадающее в своих скрытых эмоциях с переживаниями верующего человека.
Время в понимании верующего, жителя второго Рима, в пределах годового римского цикла «рождалось» и «умирало»: время было «живо», так же и он жил во времени, согласно с временем.
Это универсальная схема: на подобной основе строились многие календари, не только христианские. В этом отношении христианство унаследовало античную схему «пульса» года, соответствующую астрономическому календарю.
Москва без труда восприняла сюжет о «живом» времени. И до прихода христианства время в языческой Руси было в должной мере «живо». В народном сознании (здесь, наверное, уместнее говорить о подсознании) ему — времени — были свойственны «ощущения» младенчества, молодости, зрелости, старения и страха смерти. (Время страшится смерти — показательный оборот.) Ход языческого календаря составлял должный круг метаморфоз времени: от зимней «спячки» к летней полноте жизни и обратно.
Мы и сейчас, большей частью по инерции, того особо не сознавая, но только следуя кругом традиционных праздников, приобщаемся к этому пульсу календаря — так в него помещаемся, так с ним в «дыхании» года совпадаем.
Так же с ним принялся «совпадать» Пушкин, оказавшийся в своей невольной михайловской праздности один на один с календарем. Праздники обступили его в своем светлом округлом помещении, вовлекли в круг забытых переживаний (не весь же свой век Пушкин был афеистом , напротив, его безбожие было относительно недолгим, перед этим в детстве и юности он, несомненно, праздновал христианский год).
От этого пункта можно начать рассмотрение 1825-го пушкинского года. С его началом нового года он вступил в пределы московской праздничной матрицы. И далее, шагая по ключевым пунктам праздников, имеющих скрытый смысл — раскрытия света и времени, раскрытия пространства сознания, — он постепенно заново освоил помещение календаря.
И — внутренне переменился. Не только календарь открылся для Пушкина, но и Пушкин в нем открылся, обнаружил новое для себя пространство слова и сознания.
Это было пространство для нового его путешествия взамен прежнего, которое привело его к тупику, к «самоутоплению» осенью и зимой 1824 года.
Первое совпадение сразу нужно отметить — совпадение в исходном состоянии: спящее под снегом время праздничного календаря соответствовало анабиозу Александра на темном (минимум света, минимум надежды) рубеже 1824 и 1825 годов.
II
Рождество он, кстати, пропустил; Новый год прозевал — оттого, что более зевал, нежели праздновал. Где-то сбоку сознания остались темень и чудеса Святок, две недели от Рождества до Крещения. Святки прошли над ним, поверх его «подводного», пропащего состояния. Гадания совершались в соседних комнатах. Как он мог их проспать? Святки пестры, «животны», незаконны. Беготня с петухом, прятки по амбарам, вопрошание снега и воды в колодце. Яркое, настоящее зрелище. Хотя бы для того, чтобы вспомнить «Светлану» Жуковского, Пушкину необходимо было посмотреть на Святки.
«Светлану», он, наверное, вспоминал. Но дальше дело не заходило. Начало года никак не праздновалось. Александр смотрел на скачущий огонь свечей, на петуха, в этом свете похожего на ювелирное изделие, только изредка моргающего. Он этим немного развлекался, просто слушал и смотрел. Он — за крестьянами, они — за водой (за новонародившимся временем).
О поведении воды в Святочные дни
О воде уже много было сказано: было и море, видимое и невидимое (псковское), было «дно» и на нем «утопленник» Александр. Речь о времени, все, что о воде — о времени: оно как будто остановилось и в нем замер Александр. И вот приходят Святки, двенадцать дней от Рождества до Крещения; тут выясняется, что эти праздничные дни и сопутствующие им церемонии в первую очередь посвящены наблюдению за водой.
Вода — главный участник святочных представлений. В эти дни она языческим образом бунтует, стремится выйти из христианского графика. Ей надобно пролиться «мимо» календаря, в иные дни, в прошлое и будущее. Вода на Святки символизирует все время целиком: слушание воды есть заглядывание в большее время, загадывание будущего. Языческие корни Святок довольно глубоки — все они «под водой». Драматическое содержание Святок, страхи, с ними связанные, равно и содержание большинства обрядов связаны с соревнованием (схваткой) язычества и христианства. Бунт воды заканчивается на Крещение: так в ее поведение возвращается правильный ритм. На Крещение вода (время) оказывается регулярно «расчерчена» крестом — опускание креста в прорубь есть важнейший символ этого успокоения воды, — далее она течет спокойно, «синхронно» с календарем.
Это таинственное соревнование времен (древнего, бунтующего, и нового, «правильного», христианского) пока от Александра скрыто.
Пестрое, чуждое зрелище, пение, гадание, шевеление воды две недели перед ним тянулись; Пушкин наскучивался «финским» праздником, отворачивался от яркого морока, выходил на улицу в темноту и мороз.
Координаты гуляют по ветру. Ставни пейзажа распались, придвинулся вплотную «медведь зимы».
О чем ему гадать? Аукаешь в темень, она не отзывается, точно вымер весь дальний мир. Где в нем Петербург, где Одесса? Где его вольное пространство? Нет ничего, только очерк елового леса разнимает пополам вселенную — на верх и низ: темный и темнейший.
И тут совершается первое чудо: на Крещение к Пушкину является лицейский друг Пущин. Он будит Александра от «мертвого» сна, извлекает его из безвременья, «из-под воды». Это совпадение, никто не загадывал его приезда на праздник, но так совершилось, и это стало переломным пунктом пушкинского сидения в Михайловском (недаром он потом не раз вспоминал этот чудесный пущинский визит).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: