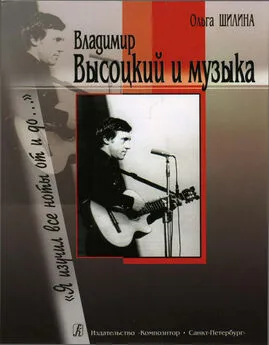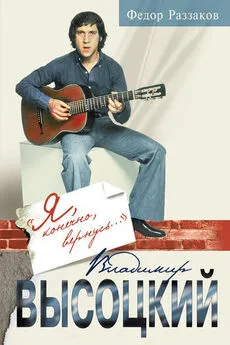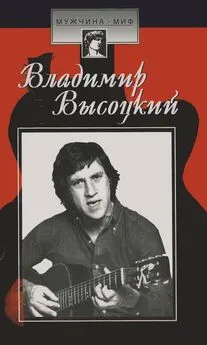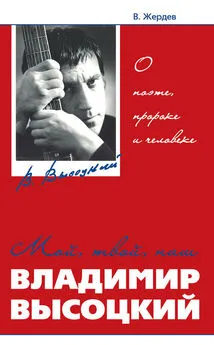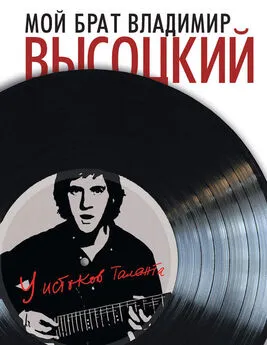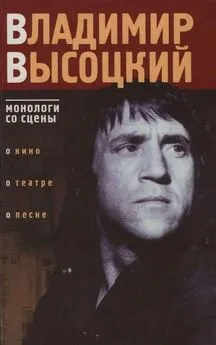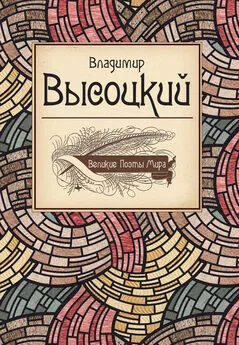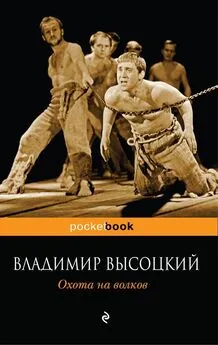Ольга Шилина - Владимир Высоцкий и музыка: «Я изучил все ноты от и до…»
- Название:Владимир Высоцкий и музыка: «Я изучил все ноты от и до…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Композитор Санкт-Петербург
- Год:2008
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-7379-0377-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Шилина - Владимир Высоцкий и музыка: «Я изучил все ноты от и до…» краткое содержание
Ольга Юрьевна Шилина— кандидат филологических наук. В 1990 году на филологическом факультете Ленинградского государственного университета защитила диплом «Психологизм поэзии Владимира Высоцкого». Окончила аспирантуру Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. В 1999 году защитила диссертацию по теме «Поэзия Владимира Высоцкого. Нравственно-психологический аспект». Автор более 40 трудов, из них около 30 посвящены творчеству Владимира Высоцкого.
Книга Ольги Шилиной «Высоцкий и музыка: „Я изучил все ноты от и до…“» представляет собой попытку объединить разбросанные по разным изданиям сведения о месте музыки в жизни и творчестве Владимира Высоцкого.
Книга адресована всем, кто интересуется его творчеством.
Владимир Высоцкий и музыка: «Я изучил все ноты от и до…» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вероятно, Высоцкому не нравилось в опере то, что за вокалом и музыкой совершенно теряется текст, совсем другое дело — романсы. Он очень любил русские романсы: любил слушать, иногда исполнял их сам. Один из самых любимых — «Ямщик, не гони лошадей». Конечно, многие его веши, что называется, «вышли» из русских романсов, есть несколько удачных стилизаций — «Она была чиста, как снег зимой», «Оплавляются свечи на старинный паркет», «Романс при свечах» («Было так— я любил и страдал»), одна из ранних песен так и называется— «Городской романс» («Я однажды гулял по столице»). А стихотворение «Я дышал синевой…» целиком построено на сюжете «Степь да степь кругом…», да и один из мотивов «Коней привередливых» перекликается с романсом «Ямшик, не гони лошадей»…
Известно, что Высоцкий также очень любил цыганскую музыку. «Он часто ходил в цыганский театр „Ромэн“ в Москве. <���…> Он работал на Таганке, а цыганский театр иногда показывал спектакли в помещении их театра. Володя всегда ходил на эти спектакли, он их обожал!» [145] Беседу вел М. Цыбульский 17.06.2006 // http://v-vysotsky.narod.ru/memoirs.htm .
Для фильма «Опасные гастроли» [146] По мнению кинокритика И. Рубановой, именно этот фильм стал своеобразным "водоразделом" для Высоцкого: "Отныне он разделил два дела: либо играл, либо сочинял для фильмов песни и пел их за кадром. На экране его поздние персонажи пели в исключительных случаях, и всегда эти случаи были основательно мотивированы". (См.: Рубанова И. Владимир Высоцкий. М., 1983.) Это подтверждается и высказыванием самого Высоцкого: "Теперь я стараюсь писать песни в картину так, чтобы сам потом мог спеть ее и для вас в любом выступлении, чтобы она имела самостоятельную ценность. Чтобы у нее был свой сюжет или какая-то своя идея, даже оторванная от сюжета: чтобы она шла в параллель с кинематографическим действием или даже за экраном, а не принадлежала только тому зрелищу, в которое она вставлена". (См.: Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути. С. 114–115).
Высоцкий написал, как известно, несколько песен-стилизаций, в том числе одну «цыганскую», которая прозвучала с экрана в исполнении Николая и Рады Волшаниновых:
Камнем грусть висит на мне, в омут меня тянет, —
Отчего любое слово больно нынче ранит?
Просто где-то рядом встали табором цыгане
И тревожат душу вечерами. (II, 190)
Сам Высоцкий иногда имитировал «цыганскую» манеру исполнения: например, знаменитая «Цыганочка» Аполлона Григорьева в фильме «Короткие встречи» или, скажем, одна из записей «Моей цыганской» (Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия», 1987. Запись 1974 г.) [147] В связи с этим произведением часто возникает вопрос: почему " Моя цыганская"? Вероятнее всего, "моя" здесь для того, чтобы дистанцироваться от знаменитой "Цыганочки" Ап. Григорьева, которую Высоцкий неоднократно исполнял.
. Известно также исполнение Высоцким в «цыганском» стиле романса на стихи А. Кусикова «Обидно, досадно, до слез и до мучения». Цыганские мотивы встречаются на протяжении всего творчества
Высоцкого: от одной из ранних песен «Серебряные струны» (1962) до самой последней — «Грусть моя, тоска моя», написанной 14 июля 1980 года и имеющей подзаголовок «Вариации на цыганские темы». А герой «Погони» из цикла «Очи черные», оказавшись в смертельно опасной ситуации, «орет» цыганскую песню:
Я ору волкам:
«Побери вас прах!..» —
А коней пока
Подгоняет страх.
Шевелю кнутом —
Бью крученые.
И ору притом:
«Очи черные!» (I, 374)
Однако звучание «цыганских мотивов» у Высоцкого окрашено в яркие тона его личности: у него нет той характерной поэтизации кабацкого разгула, как в традиционном цыганском романсе, кабак у него — символ смерти и духовной погибели. Да и цыганская воля — только временный способ ухода от «кромешного мира», один из вариантов забытья, а не достижение подлинной свободы. Наверное, поэтому в его цыганских мотивах доминирует не бесшабашность и удаль, а тоска [148] Подробнее об этом см.: Соколова И. А. "Цыганская" тема в творчестве трех бардов // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. IV. М., 2000. С. 398–416.
:
Шел я, брел я, наступал то с пятки, то с носка, —
Чувствую — дышу и хорошею…
Вдруг тоска змеиная, зеленая тоска,
Изловчась, мне прыгнула на шею. (И, 483)
А однажды даже состоялась «гитарная дуэль» Владимира Высоцкого с «русским цыганским бароном» в Париже Алешей Дмитриевичем: «Глядя в упор друг на друга, вы беретесь за гитары — так ковбои в вестернах вынимают пистолеты — и, не сговариваясь, чудом настроенные на одну ноту, начинаете звуковую дуэль.
Утонув в большом мягком кресле, я наблюдаю за столкновением двух традиций. Голоса накладываются: один начинает куплет, второй подхватывает, меняя ритм. Один поет старинный романс, с детства знакомые слова, — это „цыганочка“. Другой продолжает, выкрикивает слова новые, никем не слышанные:
…Я — по полю вдоль реки!
Света — тьма, нет Бога!
А в чистом поле — васильки
И дальняя дорога…» [149] Влади М. Владимир, или Прерванный полет. С. 79.
Цыганское пение с его «безудержной эмоциональностью» и драматическим накалом страстей, несомненно, оказало в числе других огромное влияние на формирование авторского стиля Высоцкого, одной из отличительных черт которого является экспрессия. Оказывается, процесс воздействия цыганского стиля характерен для развития русского классического романса вообще, ибо драматизация «русской песни» и возникновение особого, патетического стиля «русских песен» происходило именно под «влиянием манеры цыганского пения» [150] Васина-Гроссман В. А. Русский классический романс XIX века. М., 1956. С. 59.
. Надо сказать, что увлечение цыганскими хорами было одной из отличительных черт именно московского быта и характерно не только для «праздных кутил» — «это было весьма типично для московской среды» [151] Там же. С. 56.
. Подобное «бегство к цыганам» — это, возможно, стремление «к воле», жажда «слияния с дикой природой», поиск «неподдельного в человеке и в человеческих отношениях», что, в свою очередь, порождалось самим характером, экспрессией «цыганского пения и пляски, которая раскрепощала и одновременно властно захватывала, заражала слушателя» [152] Щербакова Т. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России. М., 1984. С. 34.
.
Особое отношение у Высоцкого было к так называемой «уличной» (блатной, лагерной и тюремной) песне. Нельзя сказать, чтобы он ее очень любил, но прекрасно знал, часто исполнял и использовал как исходный материал для своего творчества. Во всяком случае, кажущаяся простота и «примитивность» музыки Высоцкого объясняется не столько его стремлением к нарочитому упрощению мелодий, сколько близостью его самого к той среде, которая стала для него культурной почвой, его «небрезгливостью» к дворовым, блатным песням с их особой интонацией [153] Известно, что тюремный фольклор широко использовали и такие поэты-классики, как А. Пушкин, М. Лермонтов ("Узник"), И. Суриков ("Часовой"), А. Блок ("Не слышно шуму городского" в поэме "Двенадцать") и др.
. Как справедливо заметил театральный критик В. Гаевский, «сам музыкальный строй пения Высоцкого вобрал в себя атмосферу послевоенной окраинной Москвы, атмосферу коммунальных квартир, полубандитских дворов и полумещанских строений. <���…> А та, послевоенная, жизнь и те, послевоенные, нравы, не описанные прозаиками и не вошедшие в городской фольклор, сохранились лишь в песнях Высоцкого и надолго — если не навсегда — наложили на них свою печать, свой жестокий привкус» [154] Гаевский В. Последняя роль Высоцкого // Гаевский В. Флейта Гамлета. М., 1990. С. 134.
.
Интервал:
Закладка: