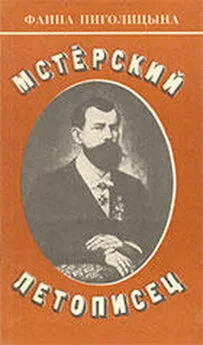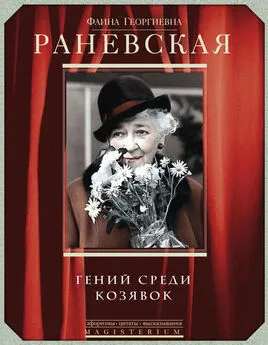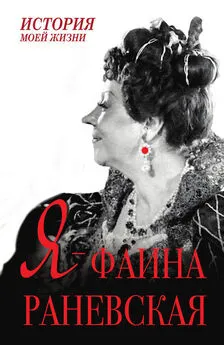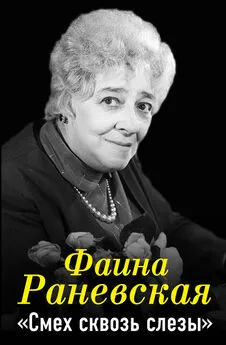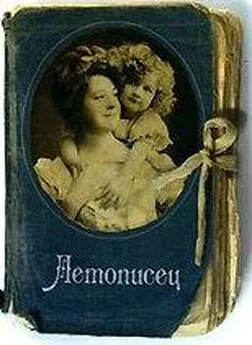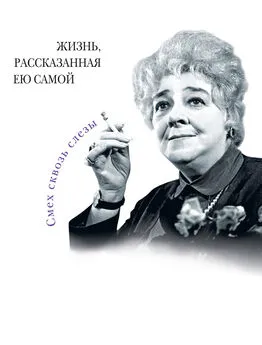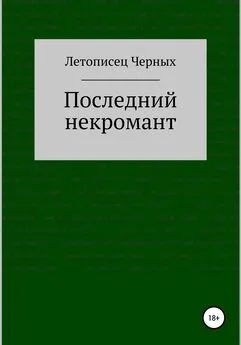Фаина Пиголицына - Мстерский летописец
- Название:Мстерский летописец
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Верхне-волжское издательство
- Год:1991
- Город:Ярославль
- ISBN:5-7415-0233-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фаина Пиголицына - Мстерский летописец краткое содержание
Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».
Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.
Мстерский летописец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возглавлял церковно-приходское училище молодой священник Богоявленской церкви Онисим Мартынович Вишневецкий, он же преподавал Закон божий.
Программа по Закону божьему была велика, требовала много труда от законоучителя, а его то и дело отвлекали дела службы и паства, поэтому частенько архипастыря заменял старенький, заштатный поп, его родственник.
Религиозное чувство внушалось детям вообще с пеленок. Совсем маленького Ваню водили к заутрене, обедне и вечерне; заставляли креститься и кланяться, проходя мимо церкви или часовни, а также когда ударит колокол к обедне, утрене и вечерне. Без молитвы не садились за стол и не ложились спать. Во время обеда и ужина креститься надо было перед тем, как начнешь есть новое блюдо. Вместе со взрослыми дети постились, а в праздничные дни до обедни не смели и чаю выпить.
И училище ставило главной задачей насадить в юные сердца религиозно-нравственные понятия, внушить любовь к царю и Отечеству, пробудить искреннюю любовь к богу и человеку и укрепить ее.
По вечерам теперь Ваня с отцом читали псалтырь. Он считался боговдохновенной книгой, хранился, как сокровище, у образов, будучи переплетен в доски и кожу с медными застежками, и переходил из рода в род как дорогое наследие. И Ваня учился по псалтырю деда.
Училище совсем не развивало способностей учеников и даже заглушало их. Первый год зубрили молитвы, заповеди и немножко учили священную историю, для пояснения молитв и богослужения: «Научиться Христову смирению есть великое благо; с ним легко и радостно жить, и все бывает мило сердцу… Чтобы спастись, надо смириться, потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен… А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна… Ты говоришь: у меня много горя… смирись и увидишь, что твои беды превратятся в покой…»
На уроках церковно-славянского читали в псалтыре Устав всенощного бдения и литургии.
Чтобы восстановить усталые силы учеников и вызвать их к новой деятельности, устраивалось пение.
Содержалось училище миром. Правительство только санкционировало школу, указывало ей общее направление. И крестьяне не очень-то жаловали эти училища. Образование их не прельщало, экономической пользы учения они не видели.
Укрепляли это пренебрежение и всякие россказни. Раскольники, чтобы подорвать авторитет священника и его училища, рассказывали такой случай.
Солдат прислал домой в деревню письмо. Неграмотные его родители понесли письмо для прочтения лучшему ученику церковно-приходского училища. Собралась послушать весточку от солдата многочисленная его родня. Ученик же никак не мог разобрать написанное, пыкал-мыкал, что-то врал, но письмо осилить не сумел. Отец мальчика так рассердился, что запретил сыну ходить в школу — нечего зря деньги переводить.
Такой казус мог случиться в любой церковно-приходской школе того времени, так как во многих из них учили читать и писать, пользуясь только печатными буквами алфавита, и выпускники потом не умели читать тексты письменные.
Жалели средств для училища даже обеспеченные крестьяне. А собирать деньги приходилось то и дело: на дрова, на мебель, на письменные принадлежности. И даже те из мстерян, кто стоял за училище, как только дело касалось взноса на его содержание, хотя бы даже самого незначительного, теряли всякое сочувствие к нему и тянули с уплатой. И бурмистру вместе с архипастырем приходилось, как милостыню, выпрашивать эти средства.
Раскольники не отдавали своих детей в училище православной церкви и, хотя закон запрещал им, устраивали школы на дому, с первых лет жизни уводя детей в раскол.
Многие же крестьяне не учили сыновей от бедности. Егорка Петряев, с которым Ваня сидел в училище рядом и сдружился, исчез, не проучившись и месяца.,
Ваня отправился навестить друга, но не застал его. Отец Егорки, офеня, не бывал дома с осени до июня. Мать оставалась одна с десятерыми детьми, мал мала меньше. Восьмилетний Егорка был старшим.
Ваня поразился нищете этого семейства. По полу плохо протопленной избы ползали полуголые годовалые двойняшки. В грязном тряпье зыбки исходил криком новорожденный. Старшие дети, играя в козанки, не подходили к нему, будто не слыша отчаянного крика малыша. Все вокруг было бедно и грязно.
Мать Егорки, войдя с улицы с ведрами, сказала Ване, что Егорка больше не пойдет в училище, что она отдала его в ученики к иконописцу Пантыкину.
Ваня всё-таки решил повидать Егорку и отправился в мастерскую богатого крестьянина-иконника.
Мастерская была в первом, подвальном этаже большого дома Пантыкиных. Пятнадцать восьми-девятилетних мальчиков обучались в ней иконописи, одновременно батрача на хозяина.
Это были ребята из многодетных бедных семей, часто из тех, в которых много девочек-нахлебниц, а парень — один, старший, и отец с матерью ждут не дождутся, когда он подрастет, овладеет каким-нибудь ремеслом и станет приносить в дом деньги.
В течение указанного в договоре срока (четыре, пять, шесть лет) ученики ничего не получали за свое иконопи-сание, только могли заработать «заурочные» — написать икон, трудясь дома по ночам, больше нормы, установленной хозяином.
Егорку это огорчало больше всего. Он жаловался, что хозяин мало учит делу, больше использует как мальчика на побегушках и лупит за малейшее непослушание, что матери об этом он говорить боится, как бы она не забрала из мастерской. Егорка мечтал стать иконным мастером.
— Вот дал мне хозяин образ святого евангелиста Иоанна Богослова, и буду теперь его рисовать пять месяцев, пока рука не приноровится писать пригоднь? для продажи иконы, — рассказывал Егорка. — Хозяин л нашу мазню продает; хоть и подешевле, а все же ем} набегает; нам же ни копейки не платит.
Ваня был поражен размахом работы иконописцев. Пирамиды «дерев», досок для икон, с полу до потолка стояли вдоль стен мастерской. Ваня подумал, что досками запаслись на весь год, а Егорка сказал, что работы тут на три дня.
В мастерской было полутемно и сыро, сильно пахло левкасом — грунтовкой досок. Посреди комнаты за длинным столом сидело десять взрослых иконников. Стол освещало всего две осьмериковых свечи.
С потолка к самым свечкам были спущены на веревочках пять глобусов — круглых, белого стекла, бутылок с водой. Бутылки, усиливая свет, доносили его до рабочего места иконников, сидящих друг против друга. На столе были расставлены деревянные ложки с красками, горшочки с водой, кисти, яичная скорлупа с яйцом для разведения красок, деревянные циркули…
Ученики, взяв чистую доску, заклеивали имеющиеся на ней трещины клеем и обрезками бумаги, левкасили-грун-товали алебастром, потом еще раз левкасили тем же грунтом, но выполняя работу уже почище. Давали доске подсохнуть, счищали ножом неровности грунтовки, потом стирали влажной тряпкой более мелкие шероховатости и полировали грунт мокрой ладонью. Так доска готовилась к нанесению рисунка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: