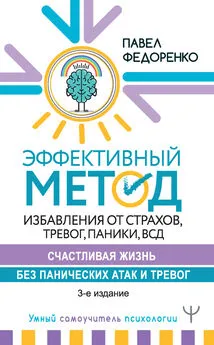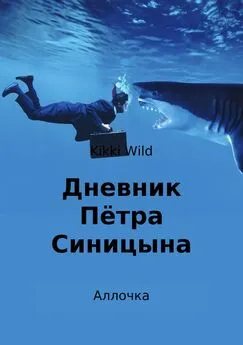Пётр Киле - Дневник дерзаний и тревог
- Название:Дневник дерзаний и тревог
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Киле - Дневник дерзаний и тревог краткое содержание
Дневник писателя – это и записи в ходе работы, и отклики на злобу дня, и воспоминания, а в наше время и участие в блогах, словом, как сказал поэт, «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».
Дневник дерзаний и тревог - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Достоевский, - продолжает Мережковский, - до последнего вздоха страдал, мыслил, боролся и умер, не найдя того, чего он больше всего искал в жизни, - душевного успокоения. Лев Толстой уже более не ищет и не борется или, по крайней мере, хочет уверить себя и других, что ему не с чем бороться, нечего искать. Это спокойствие, это молчание и окаменение целого подавленного мира, некогда свободного и прекрасного – с теперешней точки зрения его творца, до глубины языческого и преступного, - мира, который величественно развивался перед нами в «Анне Карениной», в «Войне и мире», эта тишина «Царствия Божия» производит впечатление более жуткое, более тягостное, чем вечная агония Достоевского».
Весьма поучительны свидетельства современника Достоевского и Льва Толстого, который изнутри наблюдал и переживал их религиозно-моральные искания, и, хотя как будто понимал бесплодность такого пути, сам ратовал о новом религиозном сознании. Нашел ли он-то то, чего искал?
Моральная рефлексия наших великих писателей и целой плеяды религиозных мыслителей начала XX века, независимо от их целей и неких мистических истин, якобы открытых им, была, по сути, лишь симптомом разлада в умонастроении личности и эпохи, столь разрушительного для Российской империи, разумеется, не без воздействия внешних сил. И вот когда сегодня подобная ситуация повторилась на наших глазах, с распадом великого государства, впору бы задуматься всем нам, нет ли иных путей к свободе, к «душевному успокоению», наконец, к процветанию? Оказывается, есть. Они – в заветах Пушкина, которым изменили наши великие писатели, да не они одни.
Трагическая судьба Пушкина прояснит нам многое, в ней самая сущность трагедии России, и таит в себе, быть может, возможность ее величественного разрешения.
Этой темы касается и Мережковский в вышеупомянутой статье. «Пушкина Россия сделала величайшим из русских людей, - пишет он, - но не вынесла на мировую высоту, не отвоевала ему места рядом с Гете, Шекспиром, Данте, Гомером – места, на которое он имеет право по внутреннему значению своей поэзии. Может быть, во всей русской истории нет более горестной и знаменательной трагедии, чем жизнь и смерть Пушкина».
Все так. Вместе с тем ведь это трагедия нашей жизни; трагедия поэта продолжается по сей день, и она переросла в трагедию России – при нашем общем попустительстве, с нашим исканием земного рая, Бога, а теперь и процветания по образцу развитых стран Запада.
По отношению к Пушкину мы и поныне остаемся варварами, как эллины называли всех иноземцев, не причастных к их образованию и культуре, в самом деле образцовых для своего времени и последующих тысячелетий. Россия не вынесла Пушкина на мировую высоту, не потянулась сама за ним, потому что не дала себе труда разобраться в нем, как Эллада вознесла Гомера и воспиталась на его поэмах.
Пушкин не просто классический поэт, а классик в его изначальном значении, близкий к первоистокам, как никто из поэтов Нового времени. Так возникает тема, столь ясная, что, кажется, тут говорить не о чем: Пушкин и античность. Вероятно, поэтому исследователи творчества поэта едва касаются ее, да и сам Пушкин, в отличие от Гете и Шиллера, как будто не стремился к обретению классической формы искусства; он обладал ею изначально.
Дело в том, что Пушкин начинается вовсе не как романтик (южные поэмы и ряд стихотворений того времени – это всего лишь промежуточный этап в его творчестве, когда он отдал дань моральной рефлексии, байронизму, если угодно), а сразу с «Руслана и Людмилы» и антологических стихотворений, каковые он обозначал условно как подражания древним; здесь перед ним не два мира, а один, его мифическая родина, которую и мы узнаем как свою.
Древняя Русь и античность могли встретиться лишь в мире песнопений, то есть в мифе. Это случилось именно таким образом, потому что Пушкин открыл античность в первую очередь через мифологию, может быть, еще ребенком, а в Лицее застал саму атмосферу юного древнего мира, ставшего отныне его родиной в пределах России, включая и саму Русь.
Никто из поэтов христианского мира и Нового времени не оказывался в таком положении, как Пушкин, в отношении греческой мифологии и искусства. Он один, даже его лицейские товарищи близко не подошли к античному миросозерцанию, разве что кроме Дельвига. Вообще можно подумать, что в Лицей он приехал не из Москвы, а из Древней Греции, где прошли его детские годы и где у муз он брал первые уроки гармонии и пластики. Он вспоминал о том часто, читая и Шенье, относя свое детство к мифическим временам:
В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой…
Или:
Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных…
Не обозначая темы «Пушкин и античность», Мережковский говорит о том же: «Пушкин – единственный из новых мировых поэтов – ясен, как древние эллины, оставаясь сыном своего века. В этом отношении он едва ли не выше Гете, хотя не должно забывать, - добавляет критик, - что Пушкину приходилось сбрасывать с плеч гораздо более легкое бремя культуры, чем германскому поэту».
Последнее замечание выдает наше обычное заблуждение в отношении Пушкина. Гете пожелал уже зрелым поэтом вернуться к «первобытной ясности созерцания», к «простоте древних греков». Вряд ли здесь можно говорить о сбрасывании бремени культуры позднейших эпох, а скорее речь о проникновении в тайны тех или иных культур, чему отдает дань, к примеру, Кюхельбекер, о котором Пушкин пишет в одном из писем брату, приоткрывая свое отношение к Греции: «Читал стихи и прозу Кюхельбекера – что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом, - славянорусскими стихами, целиком взятыми из Иеремия. Что бы сказал Гомер и Пиндар?»
Замыкая Пушкина в рамки России, да еще с оглядкой на литературы стран Запада, мы теряем подлинное представление о его корнях, о масштабах его гения и не можем поднять его на мировую высоту рядом с Данте и Гете. Не культура России к началу XIX века, не Пушкин в том повинны, а мы сами. Поэт Нового времени, столь органически и классически ясно вырастающий из античности, этой общей основы европейской культуры, несомненно уникальный мировой гений. Пушкин выше Гете, который лишь подступался к классической форме искусства. Разумеется, Гете воплощал свои замыслы на том уровне, на каком хотел, но это без непосредственной внутренней связи с античностью или с эпохой Возрождения, ибо и в Фаусте он предпочел воспроизвести средневекового чародея, а не ренессансный тип личности. Как ни странно, столь всеобъемлющий гений, как Гете, весь остается в пределах немецкой культуры, с ее мировым значением, в то время как Пушкин свободно творит в масштабах всей мировой культуры. Если мы этого не осознаем, как же в мире могли открыть Пушкина в одном ряду с Гомером, Данте и Шекспиром?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

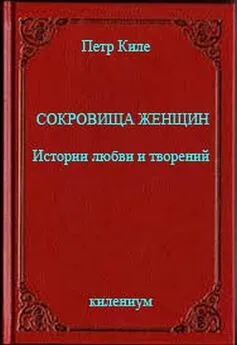
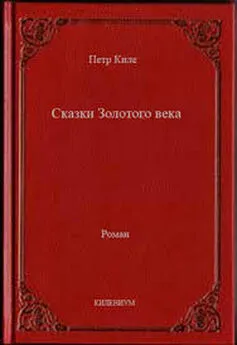
![Пётр Киле - Солнце любви [Киноновеллы. Сборник]](/books/423439/petr-kile-solnce-lyubvi-kinonovelly-sbornik.webp)
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/books/424937/petr-kile-estetika-renessansa-stati-i-esse.webp)
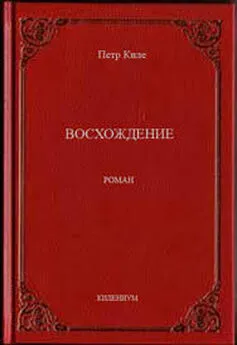
![Пётр Киле - Санкт-Петербургский бал-маскарад [Драматическая поэма]](/books/505613/petr-kile-sankt-peterburgskij-bal.webp)