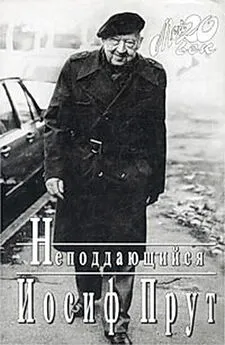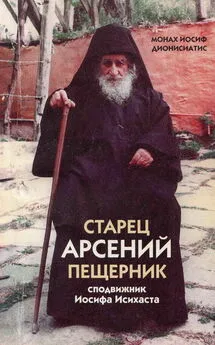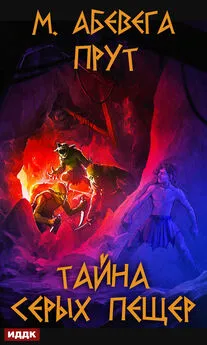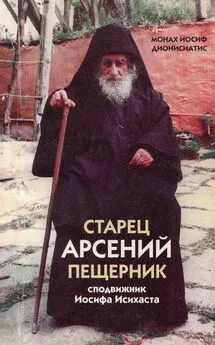Иосиф Прут - Неподдающиеся
- Название:Неподдающиеся
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-264-00236-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Прут - Неподдающиеся краткое содержание
Иосиф Прут не собирался писать мемуары, говоря: «Это удел стариков, а я еще способен сочинять пьесы и сценарии».
Но все-таки книга получилась — книга яркая, дерзкая, иногда откровенно эпатажная! Читатель найдет в ней в полном смысле слова «портрет века» — со всеми его достоинствами и недостатками, встретится на ее страницах со множеством интереснейших личностей (а среди них Лев Толстой, Владимир Маяковский, Юрий Олеша, Семен Буденный, Федор Шаляпин, Леонид Утесов, Любовь Орлова, Юрий Завадский, Пабло Пикассо), а кроме того, не раз от души рассмеется — ведь Иосиф Прут недаром считался одним из самых остроумных людей своего времени!
Дизайн серии Е. Вельчинского.
Художник Н. Вельчинская.
Подготовка текста Е. Е. Черняк.
Неподдающиеся - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Царственным оком девочка окинула сразу же притихших детей, подошла к хозяину и, приподнявшись на цыпочки, дотянулась до его лица, чтобы с ним поцеловаться.
Федор Иванович, прижав ее к сердцу, опустил затем это необычное существо на пол и громко повторил:
— Белый вальс!
Царевна-фея осмотрелась и, очевидно, приняв решение, прямо подошла ко мне и произнесла «со значением»:
— Я приглашаю вас.
И мы пошли танцевать. И было ей шесть лет. И была это Любовь Петровна Орлова — будущая великая кинозвезда.
С ней мы дружили всю жизнь. Но с той первой минуты нашего знакомства у меня никогда не повернулся язык перейти с этой удивительной женщиной на «ты».
Лидия Русланова
И все-таки упомянутыми двумя знаменательными встречами для меня 1908 год не закончился. На мои весенние каникулы мы с дедом поехали в Саратов.
Прибыв в этот город на великой русской реке, остановились у друга деда — купца Евстигнеева.
После завтрака хозяин предложил пойти к службе в Кафедральный собор: там пел хор, в котором выделялся один удивительный детский голосок. Весь город ходил слушать этого ребенка. Так в Саратове и говорили: «Идем сегодня на сироту!»
Пошли и мы, благо храм находился почти напротив.
Народу было много. Поэтому остановились мы втроем недалеко от входа.
То, что вы прочтете ниже, было написано к круглой дате со дня рождения моей дорогой, но уже покойной подруги — Лидии Руслановой.
Детей в этой семье родилось трое: две девочки и мальчик. Лида была старшенькой. Мать умерла, когда младшему из ребят исполнился год, а Лиде в ту пору стукнуло уже четыре. И тогда все стали жить у отцовых родителей — бабки и деда.
Отец был единственным кормильцем многочисленной семьи: дед харкал кровью и мог помогать ведущей хозяйство бабке только по дому. Лида — с малолетства — ходила за меньшими братом и сестрой. Концы с концами сводили еле-еле. Но тут началась русско-японская война, отца забрали в солдаты, погрузили в теплушку, и воинский поезд направился на Дальний Восток. Вскоре в дом пришла нужда. Кормить детей стало нечем. И пошла нищенкой по дворам маленькая Лида: просить милостыню и петь для прокорма своей родни.
И представьте себе, у этой девочки-певицы появилась своя «аудитория». Ее стали зазывать во дворы. А одна купчиха, подавая милостыню, даже обучила «жалостливости»:
— Ты, девица, раньше чем петь, сначала о себе расскажи! Так, мол, и так, остались мы на свете одни, горемычные, а батя наш — солдатик — веру, царя и Отечество защищает! Подайте копеечку ради Христа! А уж когда тебе бросят, только тогда рот и открывай. Нечего для них задаром петь!
Хождения с сумой продолжались почти год. На журчащий голосок пятилетней девочки особое внимание обратила какая-то чиновница, вдова. И сделала она доброе дело: определила всех троих детей по разным приютам. Так началась у моей подруги самостоятельная жизнь.
В приюте был детский хор. Регенту ее голосок понравился, и состоялись ее первые выступления: дети пели на похоронах, свадьбах, в церкви, на днях рождения.
Я уже говорил, что в 1908 году приехал с дедом Прутом в город на великой русской реке в Страстную неделю и мы вместе с купцом Евстигнеевым, с которым дедушка во время Турецкой кампании служил в одном взводе, пошли в собор послушать хор и особо — сироту… Оба они — иудей и православный — были полными Георгиевскими кавалерами, поэтому религиозных споров между бывшими воинами не возникало.
В тот день внимание мое в соборе приковал стоящий у дверей солдат-инвалид. Опирался он то ли на костыль, то ли на палку. Мне было непонятно: ведь солдат должен был находиться на войне или в казарме. Я не спускал с него глаз. Он стоял ровно, обыкновенно, равнодушно. Вдруг человек весь преобразился: вытянул шею, подался вперед, до предела напрягая слух. Тогда уже стал прислушиваться и я. На угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первородной чистоты. Мне показалось, что никто в этой массе народа — и я в том числе — не дышал. А голос звучал все сильнее, и было в нем нечто мистическое, нечто такое непонятное, что я… испугался, соприкоснувшись с таким волшебством и задрожал, услышав шепот монашки, стоящей рядом: «Ангел! Ангел небесный!»
Я, словно зачарованный, робея, смотрел в потолок, надеясь увидеть, как — через крышу — ангел улетит в свои небесные покои…
Пришел в себя, лишь когда Евстигнеев, подмигнув моему деду, сказал:
— Ну, юноша, не желаешь ли познакомиться с артисткой? Пойдем, покажу ее тебе!
Служба кончилась. Люди стали расходиться. Проковылял к выходу и безногий солдат, на которого я вначале смотрел: меня больше интересовал этот человек, потерявший на войне ногу и опиравшийся на костыль, его Георгиевский крест, висевший на выгоревшей гимнастерке, нежели окружающие и пение хора. От солдата я отвлекся, только заслышав тоненький голосок «ангела»…
Мы направились в глубину опустевшего храма, где — за алтарем — собирался хор. У стены стояла девочка моих лет. Темноволосая, аккуратно причесанная, в скромном ситцевом платьице.
— Подай руку сиротинушке! — сказал мне Евстигнеев, не отличавшийся особой деликатностью. — Да еще приложи полтинник: ей на конфеты, а то их в приюте этим продуктом не балуют!
Дед незаметно сунул мне в карман серебряную монету, и я сказал девочке:
— Здравствуйте.
Она ответила:
— С добрым днем, сударь!
Дед толкнул меня в спину. Я подал девочке полтинник, но сказать больше ничего не мог. Она сама выручила меня:
— Спасибочки, господин хороший! Это нам на ириски!
— Ну, буде! — заключил Евстигнеев. И мы ушли.
Так закончилась моя первая встреча с этой девочкой, ставшей впоследствии мне очень близким другом.
С уже знаменитой певицей — Лидией Андреевной Руслановой — я встретился через пятнадцать лет.
Шел 1923 год. Отгремели залпы боев с интервентами и белогвардейцами, я отслужил свое в рядах Первой Конной, затем участвовал в формировании пограничных частей, в разгроме басмаческих банд и — после демобилизации, — будучи журналистом, оказался в родном Ростове-на-Дону.
На летней эстраде бывшего Коммерческого клуба впервые выступала со своими песнями Лидия Русланова. Профессиональная певица с большим опытом, ученица чудесного певца и педагога Михаила Ефимовича Медведева — профессора Саратовской консерватории, бесплатно обучавшего четырнадцатилетнюю сироту. За спиной юной Руслановой были уже бесчисленные выступления перед рабочими — гвардейцами революции, а затем перед бойцам и регулярной Красной Армии в течение всего периода Гражданской войны. Она пела им русские народные песни, те, что пела всю свою жизнь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: