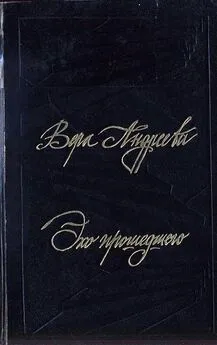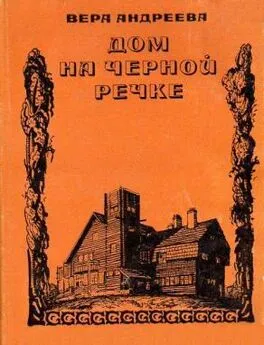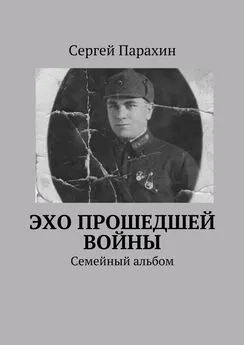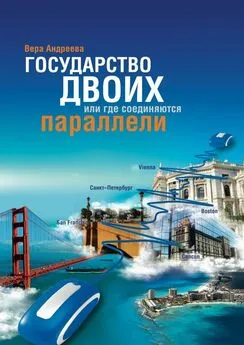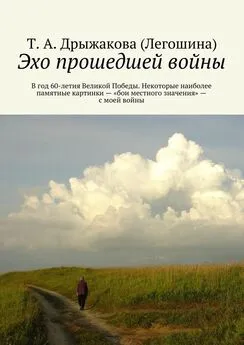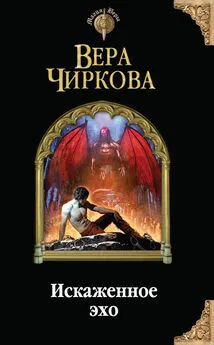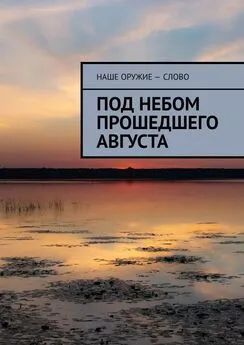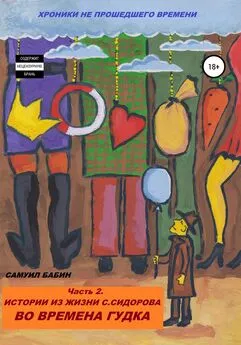Вера Андреева - Эхо прошедшего
- Название:Эхо прошедшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Андреева - Эхо прошедшего краткое содержание
Роман «Эхо прошедшего» Веры Андреевой, дочери известного русского писателя Леонида Андреева, 115-летний юбилей со дня рождения которого отмечается в этом году, является продолжением книги «Дом на Черной речке».
Вера Леонидовна была знакома со многими замечательными людьми: Мариной Цветаевой, Константином Бальмонтом, Сашей Черным, Александром Вертинским. Рассказам о встречах с ними, а также о скитаниях вдали от родины, которые пришлись на детство и юность писательницы, посвящена эта книга.
Эхо прошедшего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Северянин, Апухтин, Бальмонт — кого только наши с Саввкой одноклассники не называли, щеголяя главным образом своей эрудицией и современными мышлениями. А Савва назвал Пушкина! Он не мог поступить иначе, хотя, что нового, казалось, можно сказать про Пушкина — миллионы статей, научных изысканий, затасканных дифирамбов, целые океаны сентиментальных восторженных слез выплеснуто в литературу. Но для каждого русского рисуется свой, самый близкий, самый родной портрет Пушкина. Он умел грустить, веселиться, как никто другой, не было в душе человеческой такой струны, которую он бы не задел своей лирикой, своей поразительной мыслью, своим чеканным, из какого-то тяжелого благородного металла, словом. И каждый находит в его творчестве то самое нужное, то единственное, что отвечает его мировоззрению, его запросам, его представлению о жизни, его идеалам. И Саввка написал это так, что дрожал голос нашего учителя Попича, когда он читал Саввкино сочинение в классе, — у того самого циничного Попича, с коричневой от загара лысиной и плутоватыми глазами, дрожал голос, и несколько раз подносил он к глазам смятый платок.
Увы, учебный год кончился плачевно для нас — мы все были оставлены на второй год. Пропали старания репетиторов, пропали деньги — и не малые! — которые платила мама за право учения в гимназии. А главное, пропало драгоценное время. Глубоко запрятанная тоска разъедала душу, обесцвечивала радостные краски жизни. А великолепная молодость кипела во мне, разбрасывая радужные брызги радостного бытия. Конечно, молодость брала верх, и, бывало, я надолго увлекалась чем-нибудь, как, например, ездой на велосипеде или пением нашего двоюродного дяди Коли, внезапно появившегося на нашем скучноватом горизонте в Булони.
Двоюродный брат мамы, он возник в один прекрасный день из эмигрантского небытия и произвел на нас неизгладимое впечатление: мы как раз уныло прибыли из гимназии и, войдя в переднюю, услышали из-за двери в кухню (она же столовая) чей-то мужской голос, называвший нашу маму на «ты» и Аней, — такого человека вообще не могло существовать в природе. Мама раскрыла дверь и сказала:
— Познакомьтесь, это ваш дядя Коля!
И мы увидели стройного молодого человека, с веселыми карими глазами, с небольшими усиками. Он в три счета обворожил всех нас своими рассказами из матросской жизни, он был вольноопределяющимся на миноносце «Дерзком» Черноморского флота. А когда мама спросила:
— Ты все еще поешь, Коля? — и, получив утвердительный ответ, подвела его к пианино, мы сейчас же расселись на диване и приготовились слушать.
Покопавшись в нотах, мама вытащила итальянскую песенку «Окки туркини» («Голубые глаза»). Коля согласно кивнул головой, и мама взяла первые аккорды этой, хорошо нам известной, песни. Коля запел:
— «Окки туркини, колор дель маре…»
Мы окаменели на своем диване — никогда мы еще не слышали так близко настоящий певческий голос. Сильной, звучной волной голос Коли заполнил слишком маленькое для него пространство маминого кабинета. Его тембр драматического тенора был необыкновенно мягок, лиричен, в нем слышалось обаяние настоящей, столь любимой нами Италии, ее страстность, ее красивая печаль…
Коленька — как мы его немного насмешливо называли — почему насмешливо? Это Саввке, несмотря на всеобщее увлечение дядей Колей, всегда чего-то в нем не хватало, что-то ему мешало безоговорочно его полюбить — или излишняя самоуверенность, или некоторые его взгляды на искусство, вообще на жизнь, даже его умение все делать: он и готовить умел получше иного повара, и шить. Только подумать: нигде портняжному делу не учившись, он сшил себе брюки галифе с таким искусством, что известный в Одессе портной, Шиферзон (рассказывал Коля) сказал: «Да, вот это вещь!»
И рисовать он умел… Может быть, именно в этом, родном Саввке искусстве и было у Коли это «что-то», не нравящееся Саввке? И танцевать: он умел ловко пройтись чечеткой, и мы с восхищением слушали ритмический перестук его подметок. Он танцевал танго, скользя длинными шагами — раз-два медленно, три-четыре-пять — быстро — на чуть согнутых в коленях, почти не отстающих от пола скользящих ногах, с совершенно неподвижной верхней половиной туловища. Коля и нас всех научил танцевать танго, без извиваний и без взмахов рук партнеров — вверх-вниз, как будто они качают насос уличной колонки.
Мама была очарована Колиным пением. Она самозабвенно любила оперное, камерное пение — только эстрадного не признавала, да тогда, собственно говоря, эстрада в теперешнем понимании была в эмбриональном состоянии и иллюстрировала по тем временам достаточно низкие понятия, как, например, цыганщина и джаз-банд…
Мама всегда говорила: «Меня хлебом не корми, а только поставь у рояля хорошего певца и позволь мне ему аккомпанировать!» А тут этот двоюродный братец, у которого и прекрасный голос, и серьезное отношение к вокальному искусству, и большое, упорное стремление сделаться оперным певцом. Тут, наверное, Коля сделал большую ошибку своей жизни — голос его все ж таки не имел той силы, которая могла бы покрыть просторы оперного зала. Мама, конечно, это сознавала, но ей импонировало упорство, с каким Коля шел к своей цели, и она с радостью согласилась служить ему аккомпаниаторшей.
Так и начались почти ежедневные посещения Коленьки. Из маминого кабинета постоянно слышались бесконечные вокальные упражнения.
— А-а-а! — тянул Коленька вверх, как-то по-особенному дыша и открывая рот. — А-а-а! — спускался он вниз, и так до бесконечности…
Зато с каким восторгом я вслушивалась в арии итальянских и русских опер, в романсы Глинки, Чайковского. Передо мной открывался целый мир неизвестной мне доселе красоты.
Я была польщена, когда Коля попросил перевести тексты нескольких итальянских песен. Мне необычайно нравилась одна (народная ли?) песня: «Фенеста, кэ лючиве, мо нон люче…» — «горел свет в окне, а теперь погас, заболела моя Ненелла, умерла. Теперь ее душа со святыми в райском саду».
Мама сказала мне, что песня эта стала народной после того, как Беллини написал свою «Норму», — это ария из оперы, она вошла в народ, и простой неаполитанец, конечно, и не подозревает об этом: придумал свои слова, на своем неаполитанском жаргоне и поет, когда ему взгрустнется… Я слышала потом оперу «Норма», но этой арии, до боли знакомой, много раз оплаканной, так и не услышала, — не может быть, чтобы мама ошиблась! Наверное, я плохо слушала…
Из Праги летом мы получили телеграмму — у нашей сестры Нины-Ниниши родился сын Митя, и мы все превратились кто в тетю, кто в дядей, а мама стала бабушкой. Это новое звание маме так не понравилось, что она строго-настрого запретила так себя называть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: