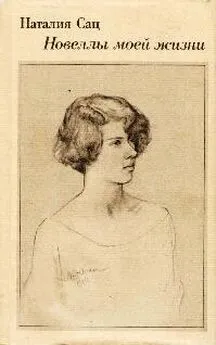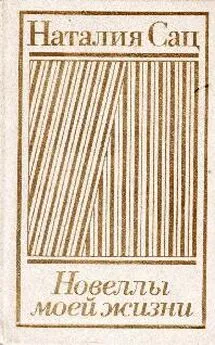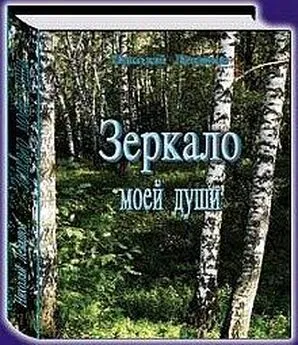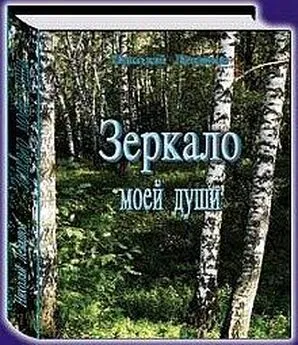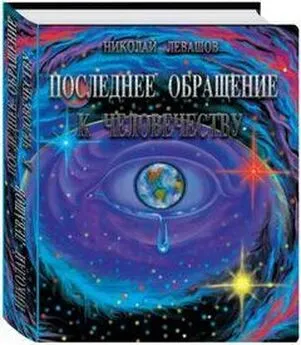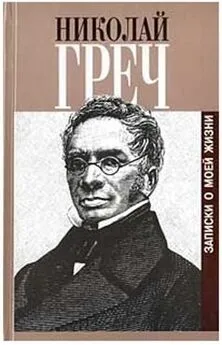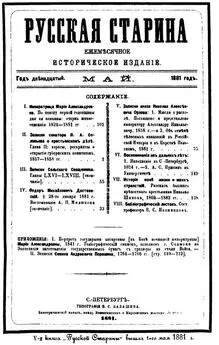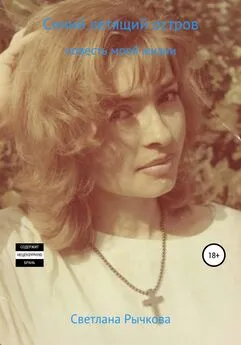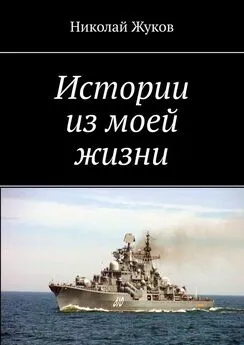Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
- Название:Повести моей жизни. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1965
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2 краткое содержание
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Повести моей жизни. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
31
Функция. Наглядное изложение высшего математического анализа и некоторых приложений его к естествознанию. Изд. «Сотрудника», Киев. 1911. — Н. М.
32
В первой половине 70-х гг. в Чигиринском у. Полтавской губ. происходили крестьянские волнения на аграрной почве. Среди крестьян пошли слухи, что царь скоро пошлет по деревням комиссаров для передела земли. Этими слухами воспользовался один из участников революционного движения — Я. В. Стефанович. Подобрав небольшую группу товарищей (среди них главные — Л. Г. Дейч и И. В. Бохановский), он повел среди крестьян Чигиринского уезда агитацию. Организовали в 1877 г. «Тайную дружину», в которую было вовлечено около 2000 крестьян путем раздачи подложных царских грамот с обещанием земли и с призывом отбирать ее силой от помещиков. Тайна, вопреки убеждениям подложных царских грамот, соблюдалась недолго. Нескольких человек сослали в Сибирь, 74 крестьянина были приговорены к различным наказаниям.
Подложные документы Чигиринской дружины опубликованы в журн. «Былое» за 1906 г. (№ 12, стр. 257 и сл.).
33
Изложенная здесь, в общем довольно точно, т. н. «боголюбовская» история произошла 13 июля 1877 г. А. С. Емельянов, известный в революционных кругах под фамилией Боголюбова, за участие в демонстрации 6 декабря 1876 г. на площади перед Казанским собором в Петербурге был приговорен к каторжным работам в рудниках на 15 лет. Перед отправкой на каторгу содержался в Доме предварительного заключения. Здесь и произошла описанная Н. А. Морозовым история. Боголюбова подвергли по приказу Трепова телесному наказанию. Вскоре его отправили в Ново-Белгородскую центральную каторжную тюрьму, где он впал в душевное расстройство. Умер в Казанской больнице около 1885 г.
34
См. «Автобиографию» Н. А. Морозова в т. I «Повестей моей жизни».
35
Об Алексеевой см. в т. I «Повестей моей жизни».
36
См. т. I «Повестей моей жизни».
37
Вера Ивановна Засулич была в первый раз арестована в связи с делом С. Г. Нечаева в 1869 г. Около двух лет ее держали в тюрьме, затем выслали в административном порядке в места «не столь отдаленные». Лишь в 1875 г. разрешили приехать в Харьков для поступления на фельдшерские курсы. В Трепова она стреляла 24 января 1878 г. в приемной градоначальника в присутствии просителей и чиновников. Тяжело ранила Трепова в живот, но он потом выздоровел.
В своих воспоминаниях Засулич рассказывает, что было после ее выстрела: «Выстрел, крик... Стояла и ждала... Посыпались удары, меня повалили и продолжали бить... Что было совершенно неожиданно, так это то, что я не чувствовала ни малейшей боли; чувствовала удары, а боли не было. Я почувствовала боль только ночью... в камере».
38
Сопоставление Веры Засулич с Шарлоттой Корде не соответствует политическим мотивам их выступлений. Шарлотта Корде убила вождя французской революции конца XVIII в. Жан-Поля Марата (13 июля 1793 г.) из побуждений контрреволюционных. Вера Засулич стреляла в царского ставленника за жестокое обращение с осужденным революционером.
39
О супругах Гольдсмит см. «Повести моей жизни», т. I. Упоминаемую дальше в тексте дочь Гольдсмитов звали Маней, а не Соней, как пишет Н. А. Морозов.
40
Положение обязывает.
41
Повесть «Невозвратно былое» написана в Двинской крепости в середине января 1913 г.; напечатана в журнале «Северные записки» за 1916 г. (№№ 2 и 12). Вторая половина повести (гл. 5—7) появилась в печати спустя десять месяцев после первой вследствие задержки цензурой. После долгих переговоров редакции с цензурой последняя разрешила печатание глав пятой и седьмой; заголовок шестой главы был в журнале сохранен, но вместо текста под ним был ряд точек. Первая глава повести имела в журнале заголовок: «Мысли узника».
42
Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828 г.). Полное собрание сочинений, т. II, ред. М. А. Цявловского, М., 1936, стр. 57 и сл.
43
Из поэмы «Антоний» поэта первой трети XIX в. Э. И. Губера. Цитировано неточно (Сочинения, т. I, СПб., 1859, стр. 298).
44
Интересные подробности о саратовской революционной молодежи, среди которой действовал Н. А. в описываемый период, — в позднейшем очерке одного из тогдашних молодых людей, И. И. Майнова, «Саратовский семидесятник» («Минувшие годы», № 1, 1908, стр. 244—276; № 3, стр. 171—208; № 4, стр. 252—282).
Очерк посвящен жизнеописанию и революционной деятельности главного героя рассказа «Изумительный револьвер» П. С. Поливанова, который просидел одновременно с Н. А. почти двадцать лет в Шлиссельбургской крепости. Описывая общество, собиравшееся у Гофштеттеров, И. И. Майнов так характеризует тогдашнего Н. А.: «Когда разговор, что так часто бывало, сводился на литературу, на поэзию или принимал шутливый и веселый характер, то первое место в живой словесной перестрелке занимал молодой человек лет 23—24, стройный, хорошенький, с нежным цветом лица, с ясными глазами, в которых самый опытный сыщик не увидел бы ничего говорящего о том, что вот это — "заговорщик" и будущий террорист. В литературно-философски-шутливом causerie Николай Иванович Полозов — псевдоним этого нелегального — напоминал скорее какого-нибудь беззаботного виконта дореволюционной эпохи, чем русского "нигилиста", которому по шаблону реакционных романов того времени (Маркевич, Авсеенко, Крестовский, Мещерский и т. д.) полагалось быть неотесанным циником, отрицающим эстетику и носовые платки. Этот "нигилист" не только признавал эстетику, но и был проникнут эстетическим чувством до конца ногтей. Он был изящен и по внешности, и по ходу своих мыслей, живому, свободному, почти всегда несколько своеобразному, и по легкой, искристой форме своей речи, с прорывающимися в ней по временам нотками лиризма, тотчас же спешившего замаскироваться веселой шуткой. Тонкий и строгий критик чужих стихов, Николай Иванович сам писал очень недурно».
Излагая дальше содержание революционных бесед молодежи, собиравшейся на балконе квартиры Гофштеттера, автор очерка вспоминает: «Мечтали о возрождении человечества к новой жизни, искали путей к такому возрождению и, чувствуя в себе силы идти в своих исканиях навстречу всем бедам и напастям, какие может послать судьба, беззаботно отдавались красивым настроениям, когда они являлись естественно и охватывали сразу всех, как это иногда бывает в хорошей компании. В такие моменты Морозов являлся самым приятным и занимательным собеседником. По своей любви к шуткам он нередко старался поддеть нас, юношей, на нашей юношески прямолинейной и необузданной революционности и раз сочинил с этой целью особые стихи, сверхультрареволюционные; не только содержание, но и самые рифмы в этих стихах состояли сплошь из самых сакраментальных или жупельных для революционера слов: "жандармы" — "казармы", "троны" — "стоны" (конечно, народные), "тираны" — "под игом рабства гибнущие страны" и т. п. С совершенно серьезным видом и с немалым пафосом он прочел перед нами это дивное произведение революционной музы, ожидая, что юнцы не разберут и придут в восторг от столь пламенного "прославления свободы"; но в этой гипотезе будущий философ ошибся, и дело закончилось дружным смехом автора и его критиков» («Минувшие годы», № 3, стр. 192—193).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: