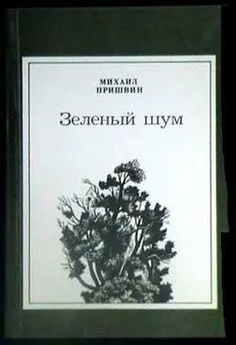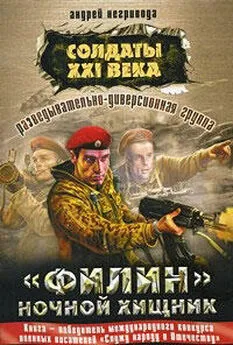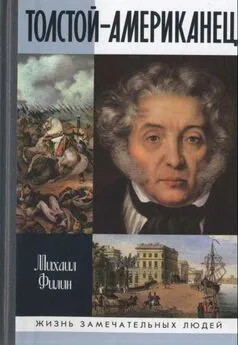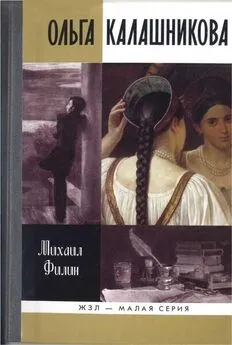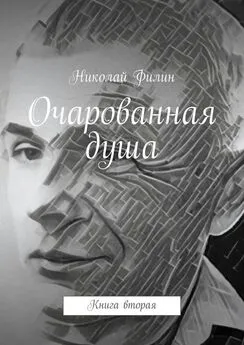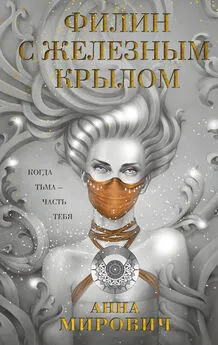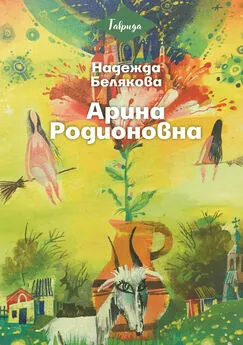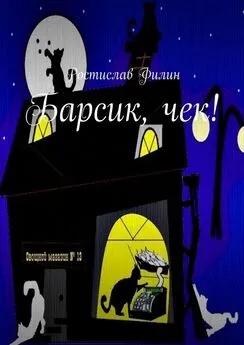Михаил Филин - Арина Родионовна
- Название:Арина Родионовна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03110-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Филин - Арина Родионовна краткое содержание
Вниманию читателей предлагается научно-художественное жизнеописание Арины Родионовны Яковлевой (Матвеевой; 1758–1828) — прославленной «мамушки» и «подруги» Александра Пушкина. Эта крепостная старуха беззаветно любила своего «ангела Александра Сергеевича» — а поэт не только отвечал ей взаимностью, но и воспел няню во многих произведениях. Почитали Арину Родионовну и пушкинские знакомцы: князь П. А. Вяземский, барон А. А. Дельвиг, А. П. Керн, H. М. Языков и другие. Её имя фигурирует и в ряде мемуаров того неповторимого времени. Позднее, уже в иные эпохи и при разных обстоятельствах, об удивительной женщине проникновенно отзывались А. А. Григорьев, И. С. Аксаков и Ф. М. Достоевский, Марина Цветаева, С. Л. Франк и прочие наши знаменитости. «Арина Родионовна была воплощением Русской Музы… И „доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит“, — будет живо о ней предание», — утверждал, например, поэт и пушкинист В. Ф. Ходасевич.
Достоверных материалов для биографии Арины Родионовны сохранилось очень мало. Однако историк и писатель М. Д. Филин, оперируя крупицами имеющихся документов и пушкинскими текстами, создал-таки книгу о жизни «голубки дряхлой» — книгу о «красоте души человеческой, души любящей».
Арина Родионовна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для самой Ольги Сергеевны Арина Родионовна — безусловная, во всех смыслах этого слова, «няня»; точно такая же, какой была Фадеевна для Ольги (или, в переделанном варианте беловика, для Татьяны) Лариной. В черновых и беловых рукописях второй главы «Евгения Онегина» красочно и довольно полно изложены обыденные нянины функции:
Фадеевна рукою хилой
Её качала колыбель
Она же ей стлала постель
Она ж за Ольгою ходила
Бову рассказывала ей
Чесала шёлк её кудрей
Читать — помилуй мя — учила
Поутру наливала чай
И баловала невзначай (VI, 566; выделено Пушкиным).
Нянькой стала крестьянка Ирина и для явившегося в мир в 1805 году пушкинского братца Льва: «Арине Родионовне поручено было ходить за ним». Но за Александром-то «ходила другая, по имени Улиана». То есть предписанных няньке обязанностей по уходу за барчуком Арина Родионовна не выполняла — и, значит, формально нянькою Александра Пушкина она не была.
Зато несколько позже крепостная баба, по выражению О. С. Павлищевой, «сделалась нянею для брата», хотя по-прежнему (тут мы вынуждены повториться) «за ним ходила другая» [133] Курсив в цитатах из мемуаров О. С. Павлищевой всюду мой.
[134] ПВС-1. С. 43.
.
Так что в «официальных», выбранных родителями, няньках Александра Пушкина Арина Родионовна не состояла. Не её сделали — она «сделалась» нянею для мальчика, да не простою, а душевною. Умела Арина Матвеева «ходить» за душою человеческой, особливо детской, — вот и потянулась к ней пробуждавшаяся пушкинская душа.
О. С. Павлищева писала, что Александр Сергеевич любил Арину Родионовну «с детства» [135] Там же. С. 44.
. По всей вероятности, уже в изначальной картине мира, постепенно проступавшей в сознании ребёнка, та присутствовала в качестве няни. Так, в <���«Программе автобиографии»> (1830 или 1833), составленной в хронологической последовательности, читаем: «Первые впечатления. Юсупов сад [136] Подразумевается усадебный сад князя Н. Б. Юсупова в Большом Харитоньевском переулке, где гулял маленький Александр. В одном из домов этой усадьбы Пушкины жили в 1801–1803 годах.
. — Землетрясение [137] Достопамятное московское землетрясение произошло 14 октября 1802 года.
. — Няня. <���…>. — Рожд<���ение> Льва…» (XII, 308). Отсюда вытекает, что Александр Пушкин уже задолго до рождения Лёвушки, приблизительно в три-четыре года, записал Арину Родионовну в свои няни.
Возможно, он, набрасывая в начале тридцатых годов план мемуаров, был не совсем справедлив по отношению к Ульяне Яковлевой: ведь назначенная-то старшими нянька на заре XIX века никуда не делась, жила в доме и продолжала исправно «ходить» за ним, тогда тучным и молчаливым малышом. Но чуть позже поэт, как нам думается, всё же исправился и обмолвился о своей давно почившей первой няньке.
В доме на Малой Почтовой Пушкины прожили, скорее всего, до осени 1799 года. Сергей Львович сибаритствовал, флиртовал с музами и идти в ту или иную службу покуда не собирался. А осенью, когда во владениях И. В. Скворцова начался капитальный ремонт [138] Виноградов Л. А. Указ. соч. С. 25, 28.
, Пушкины в одночасье подхватились — и двинулись на север, в Опочецкий уезд Псковской губернии. Отправились туда всем домом, вместе с детьми и дворовыми людьми. «В конце того же года, — вспоминал А. Ю. Пушкин, — возвратись из похода в Москву, я уже Сергея Львовича с семейством не застал; они уехали к отцу своему Осипу Абрамовичу в Псковскую губернию, в сельцо Михайловское…» [139] Книга воспоминаний о Пушкине. С. 17.
Из Михайловского Пушкины поехали в Петербург, где их поджидала М. А. Ганнибал, снявшая для детей и внуков квартиру в «Литейной части в доме под № 70» [140] Ульянский. С. 119.
. В тот период Мария Алексеевна хлопотала о продаже Кобрина и Рунова и, столкнувшись с бюрократическими сложностями, настоятельно нуждалась в помощи и моральной поддержке дочери и зятя.
Арина же Матвеева была отпущена хозяевами на родину, в Суйду и Кобрино, для свидания с детьми, мужем и родственниками. Её имя фигурирует в исповедной ведомости суйдовской церкви Воскресения Христова за 1799 год, где крестьянка показана бывшей на исповеди, но не причащавшейся «за нерачением» [141] Там же. С. 24, 119.
. По-видимому, Арина Родионовна исповедовалась уже в филипповки, то есть во время Рождественского поста, начинавшегося 14 ноября.
При Александре Пушкине, которому едва исполнилось полгода, в Петербурге находилась, как и полагалось, Ульяна Яковлева. Никаких особенных тревог за здоровье младенца ни у неё, ни у родителей с бабушкой не было. Зато спустя несколько месяцев, предположительно в конце весны или в начале лета 1800 года, когда Пушкин стал «годовым ребёнком» [142] Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 28.
, с «дитятей» произошло нечто экстраординарное [143] Некоторые пушкинисты XIX–XX веков снисходительно отнесли описание происшествия, о котором мы расскажем далее, к категории «исторических анекдотов» или «семейных преданий». Но причисление источника к тому или иному «ненадёжному» жанру ещё не является доказательством того, что этот источник апокрифический. Подкрепить же свои сомнения какими-либо вескими аргументами скептики до сих пор так и не смогли.
.
«Была ли при этом случае с маленьким Александром Арина Родионовна или Ульяна Яковлева, трудно сказать», — признался А. И. Ульянский [144] Ульянский. С. 25.
.
В принципе мы согласны с учёным — и всё же попробуем уточнить детали случившегося.
В 1874 году П. В. Анненков, почерпнувший немало сведений от родственников поэта, в книге «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» впервые поведал публике о встрече малыша Пушкина с грозным императором Павлом I:
«Няня его встретилась на прогулке с государем Павлом Петровичем и не успела снять шапочку или картуз с дитяти. Государь подошёл к няне, разбранил за нерасторопность и сам снял картуз с ребёнка, что и заставило говорить Пушкина впоследствии, что сношения его со двором начались ещё при императоре Павле» [145] Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 28. Здесь же пушкинист предположил, что знаменательная встреча с Павлом I имела место в московском Юсуповом саду. Однако П. В. Анненков ошибся: с весны 1799 года и до своей кончины император в Москву не приезжал.
.
Спустя четыре года И. С. Тургенев напечатал в петербургском журнале [146] Вестник Европы. 1878. № 3. С. 7–8.
письмо Пушкина к жене Наталье Николаевне от 20–22 апреля 1834 года, где поэт изложил собственную (а точнее, семейную) версию давнего эпизода. По Пушкину, дело обстояло несколько иначе: «Видел я трёх царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку…» (XV, 129–130 ). Получалось, что Павел I не собственноручно лишил ребёнка головного убора, а только распорядился на сей счёт.
Интервал:
Закладка: